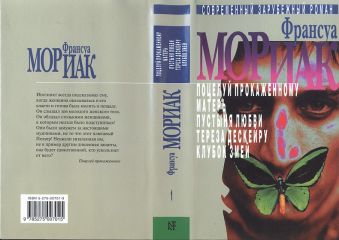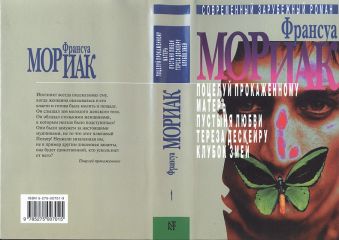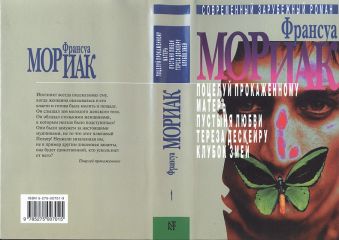Надо проверить, решила Тереза. Она ощупью стала подниматься по лестнице. Чем выше поднималась, тем становилось светлее, - наверно, уже заря светит в окно. Вот наконец лестничная площадка у чердака, на ней шкаф, где висит старая одежда, которую до сих пор никому не отдают, потому что надевают ее на охоту. В выцветшей пелерине есть глубокий карман; тетя Клара клала туда свое вязанье в те времена, когда и она подстерегала в хижине вяхирей. Тереза засовывает в карман руку и вытаскивает запечатанный пакетик:
Хлороформ - 10 граммов.
Аконитин - 2 грамма.
Дигиталин - 0,2 грамма.
Она перечитывает эти слова, эти цифры. Умереть. Она всегда безумно боялась смерти. Главное, не смотреть смерти в глаза, думать только о том, что надо сделать: налить в стакан воды, растворить в ней порошок, выпить залпом, вытянуться на постели, закрыть глаза. Стараться не думать о том, что будет после смерти. Почему бояться вечного сна больше, чем всякого другого? Если ее сейчас кинуло в дрожь, то только потому, что на рассвете всегда бывает холодно. Тереза спускается по ступенькам, останавливается у той комнаты, где спит Мари. Нянька храпит так громко, словно рычит какой-то зверь. Тереза тихонько входит. Сквозь щели в ставнях пробивается занимающийся дневной свет. В тени белеет узкая железная кроватка. На одеяльце лежат два крошечных кулачка. В подушке утопает еще расплывчатый детский профиль. Тереза узнает ушко Мари, слишком большое, как у матери: верно говорят, что девочка - вылитая мать. Вот она лежит, отяжелевшая, спящая. "Я ухожу. Но эта частица меня самой останется, и судьба ее свершится до конца, ничего оттуда не выкинешь, ни на йоту не изменишь". Склад ума, склонности, закон крови, закон нерушимый. Терезе приходилось читать, что самоубийцы, дошедшие до отчаяния, уносят с собой в небытие своих детей. Мирные обыватели в ужасе роняют газету: "Да как возможны подобные вещи?" Поскольку Тереза - чудовище, она чувствует, что это вполне возможно и что еще бы немного, и она... Она опускается на колени, едва касается губами маленькой ручонки, лежащей на одеяле, и, вот удивительно, что-то нарастает в самой глубине ее существа, поднимается к глазам, жжет ей щеки: скупые слезы женщины, которая никогда не плакала!
Потом Тереза поднялась, еще раз окинула взглядом ребенка, прошла, наконец, в свою комнату, налила воды в стакан, сломала сургучную печать и остановилась в нерешительности, какой из трех ядов взять.
Окно было отворено; петухи своим пением, казалось, разрывали пелену тумана, а прозрачные его клочья цеплялись за ветки сосен. Все кругом было залито светом зари. Как же расстаться с этим сиянием? Что такое смерть? Ведь никто не знает, что такое смерть. Тереза не была уверена, что это небытие. Она не могла с твердостью сказать: там никого нет. И как была она противна себе за то, что ей страшно. Ведь она не колебалась, когда хотела столкнуть другого человека в бездну небытия, а сама вдруг упирается. Какая унизительная трусость! Если предвечный существует (на мгновение возникло воспоминание: праздник тела господня, удушливый, жаркий день, одинокий человек в тяжелом золотом облачении, чаша, которую он держит обеими руками, шевелящиеся губы и скорбное лицо) - да, если предвечный существует и если такова воля его, чтобы жалкая слепая душа переступила порог, пусть он по крайней мере примет с любовью чудовище, сотворенное им. Тереза вылила в стакан с водой хлороформ - его название было более привычно и меньше пугало ее, ибо вызывало представление о сне. Надо спешить. Дом уже просыпается: жена Бальона со стуком открыла ставни в спальне тети Клары. Что она там кричит глухой старухе? Обычно та ее понимает по движениям губ. Захлопали двери, кто-то бежит по лестнице.
Тереза едва успела набросить на стол свою шаль, чтобы скрыть пакетики с ядом. Не постучавшись, ворвалась жена Бальона.
- Мамзель померла! Я пришла, а она мертвая лежит на постели, совсем одетая. Уже закоченела.
Тете Кларе, старой безбожнице, опутали пальцы четками, положили ей на грудь распятие. Приходили фермеры, преклоняли колени и выходили, окинув взглядом Терезу, стоявшую в изножии кровати ("А кто ее знает, может, и старуху-то она извела"); Бернар поехал в Сен-Клер известить родных и заняться необходимыми хлопотами. Вероятно, он думал, что эта смерть пришла вовремя - отвлечет внимание от главного. Тереза глядела на мертвое тело, на старое преданное существо, которое пало ей под ноги в то мгновение, когда она хотела ринуться в бездну смерти. Что это? Случайность? Совпадение? Скажи ей кто-нибудь, что это произошло по особому произволению, она бы только плечами пожала. Люди шушукались: "Видели? Она хоть бы для виду слезинку проронила". А Тереза в сердце своем говорила с той, кого уже не стало: "Как же мне теперь жить? Быть живым трупом, да еще во власти тех, кто меня ненавидит? Даже и не пытаться что-нибудь увидеть за стенами своего склепа?"
На похоронах Тереза занимала положенное ей место. А в ближайшее воскресенье она вошла в церковь под руку с Бернаром, и, вместо того чтобы пройти к своей скамье через боковой придел, он нарочно провел ее через неф. Тереза откинула траурную вуаль лишь после того, как заняла свое место между свекровью и мужем. Присутствующим в церкви не было ее видно за колонной, а против нее был только клирос. Ее окружили со всех сторон: сзади - толпа, справа - Бернар, слева - госпожа де ла Трав, и только одно оставалось ей открытым, как арена, на которую вырывается из тьмы бык, вот это пустое пространство, где между двумя мальчиками-служками странно наряженный человек что-то шепчет, слегка расставив руки.
11
Вечером Бернар и Тереза возвратились в Аржелуз, но теперь в дом Дескейру, где уже много лет почти что и не жил никто. Камины там дымили, окна плохо затворялись, под двери, которые изгрызли крысы, задувал ветер. Но в том году осень была так хороша, что сначала Тереза и не замечала этих неприятностей. Бернар целыми днями пропадал на охоте. Вернувшись домой, он тотчас располагался на кухне, обедал с Бальонами - Тереза слышала звяканье вилок, монотонные голоса. В октябре быстро темнеет. Книги, которые Тереза велела перенести из соседнего дома, она уже знала наизусть. Бернар ничего не ответил на просьбу жены переслать в Бордо, в книжную лавку, ее заказ на новинки, он только позволил ей пополнить запас сигарет. Что ей было делать вечерами? Мешать кочергой жар в камине? Но ветер выбивал в комнату дым от горящих смолистых поленьев, у нее першило в горле, щипало глаза, и без того раздраженные курением табака. Как только Бальонша уносила остатки почти нетронутого ужина, Тереза тушила лампу и ложилась в постель. Сколько часов лежала она, вытянувшись под одеялом, тщетно ожидая сна? Тишина Аржелуза мешала ей спать: когда ночью дул ветер, все-таки было лучше - в смутной жалобе, звучавшей в вершинах сосен, была какая-то человеческая ласка. Тереза отдавалась душой этой убаюкивающей песне. Беспокойные ночи поры равноденствия лучше усыпляли ее, чем тихие ночи.
Как ни были томительны бесконечные вечера, все же случалось, что Тереза возвращалась с прогулки еще засветло, и тогда какая-нибудь фермерша, завидев, ее, хватала своего ребенка за руку и спешила увести его во двор или же встретившийся гуртоправ, которого она знала и в лицо и по имени, не отвечал на ее приветствие. Ах, как было бы хорошо затеряться, исчезнуть в большом, многолюдном городе! В Аржелузе каждый пастух знал сочинявшиеся о ней истории (ей приписывали даже смерть тети Клары). Она не посмела бы тут переступить чужого порога, из дому выбиралась через боковую калитку, обходила фермы стороной; стоило вдалеке застучать колесам крестьянской тележки, она сворачивала с большой дороги на проселочную; она шла быстро, а на сердце у нее было тревожно, как у птицы, вспугнутой охотником; заслышав дребезжащий звук велосипедного звонка, она пряталась в зарослях вереска и замирала там, пока не проедет велосипедист.
По воскресеньям на мессе в Сен-Клере она не испытывала такого страха, и там ей становилось немного легче. Общественное мнение городка как будто стало более благосклонным к ней. Она не знала, что отец и семейство де ла Трав рисовали ее как невинную жертву, смертельно сраженную клеветой. "Мы боимся, что бедняжка не оправится, она никого не желает видеть, и доктора говорят, что в этом ей никак нельзя противоречить. Бернар окружает ее заботами, но, знаете ли, психика ее затронута".
В последнюю ночь октября бешеный ветер, примчавшийся с Атлантики, долго терзал вершины деревьев, и Тереза в полусне прислушивалась к этому шуму, похожему на гул океана, однако на рассвете ее разбудила не эта жалоба леса. Она откинула ставни, но в комнате по-прежнему было темно: шел дождь, мелкий и частый, струившийся по черепичным кровлям хозяйственных служб, по еще густой листве дубов. Бернар не пошел в тот день на охоту. Тереза закуривала сигарету, бросала, выходила на лестничную площадку и слышала оттуда, как ее муж бродит на нижнем этаже из комнаты в комнату; запах крепкого трубочного табака проникал в ее спальню, заглушая запах сигарет, которые курила Тереза, - сразу на нее пахнуло прежней ее жизнью. Первый день осеннего ненастья... Сколько же времени ей еще предстоит томиться в этой комнате у камина, где едва тлеют угли! В углах плесень, из-за сырости отстали обои; на стенах еще видны следы висевших там фамильных портретов, которые Бернар увез в Сен-Клер, чтобы украсить ими гостиную, и все еще торчат уже ненужные ржавые гвозди. На каминной полке по-прежнему стоят в фигурной рамке из поддельной черепахи три фотографии, такие бледные, словно покойники, запечатленные на них, умерли вторично: отец Бернара, его бабка и сам Бернар в детстве, с челкой на лбу и локонами до плеч. Надо прожить тут весь этот день, а потом жить тут недели и месяцы...

![Франсуа Мориак - Том 1 [Собрание сочинений в 3 томах]](https://cdn.my-library.info/books/137833/137833.jpg)