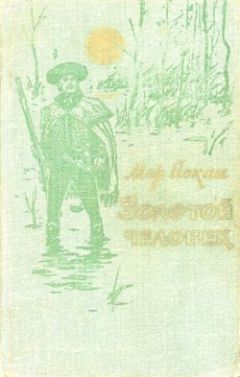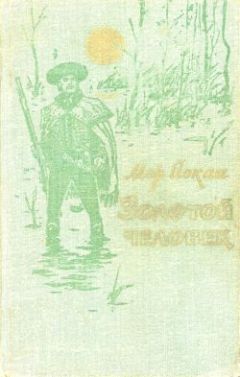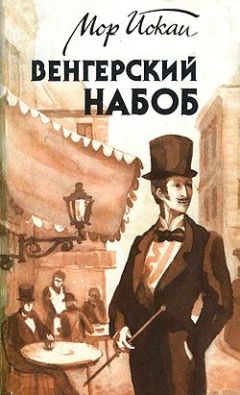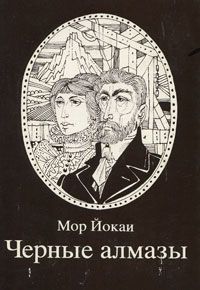- Что вы делаете? Ослы! Это же еще не Каталани, это синьора Брусси, она пролог исполнит! Прекратить сейчас же!
Струхнувшая синьора, сообразив, что буря поднялась не в ее честь, поторопилась убраться, уступив дорогу Зельмире, которая явилась, разъяренная, ко всем чертям посылая этого растяпу Россини с его дураком либреттистом, выдумывающих какие-то прологи, чтобы чужие лавры похищать. Что поделаешь, людей несведущих сразу к премьере не подготовишь. Не было иного способа поправить дело, как только заставить синьору Брусси скомкать свое выступление и самой занять ее место.
При этом решительном шаге буря забушевала с новой силой. Забудься другая артистка настолько - до прямого неуважения к публике, ее непременно уволили бы. Но общая любимица... ею только восторгаются: ах, это гениально, какое изумительное присутствие духа.
Теперь и оставшиеся венки полетели на сцену. Каталани утопала в цветах и стихах буквально по колено, так что едва могла пробраться к суфлерской будке, в чем была прямая нужда, ибо уважаемая наша артистка считала совершенно излишним заранее изучать партитуру: обыкновение не столь странное, сколь доказывающее, кроме завидной храбрости, еще и полнейшую необязательность для исполнителей знать содержание всей оперы целиком.
Но красотой уж зато она блистала, надо отдать ей справедливость. В свете рампы казалась она совсем юной, почти девочкой. Взгляд ее сулил погибель и блаженство; каждое движение привораживало, чаровало. Она даже и не пыталась дать своей партии какое-то обдуманное направление, - просто нанизывала подряд все, что только могло завлечь, пленить, обворожить. Само ее пение далеко отходило от предуказанного, - такие прихотливые рулады выделывала она своим на диво гибким голосом, пуская в ход все испытанные приемы покорения публики и до того расцветив партию этой блестящей мишурой, что сам Россини, слушавший за кулисами свою оперу, стал бить в ладоши и спрашивать окружающих: "Какое прекрасное сочинение, не скажете ли, чье?"
Публика тоже отлично справлялась со своей партией: люди мосье Оньона были на высоте. Подымет Карпати руку - и сотни ладоней громким плеском тотчас ответят из зала; опустит - опять тишина: ни одна бесценная рулада чтобы не пропала для слушателей из-за нелепых каких-нибудь аплодисментов.
На очереди был романс Зельмиры: красивейшее место оперы. Печальную эту арию сопровождают лишь флейта, вступающий временами гобой и пиццикато на скрипке.
- Тс-с! Chut! [Тс-с! (франц.)] Тише! - предупредили заранее из инфернальной ложи, чтобы все угомонились: сейчас самая прелесть.
Каталани вышла вперед, на самый просцениум, чтобы внятно было каждое слово, и мягким, бархатистым голосом запела.
Но едва пропела несколько тактов и залилась нежной трелью, кто-то гаркнул вдруг "браво!" и загремели аплодисменты.
Карпати вскинулся испуганно, взглядом ища Оньона: экие олухи! Пиано, а они аплодировать...
Каталани остановилась, с явной досадой пережидая рукоплескания. Потом продолжила романс.
И опять, при первой же руладе, - новые хлопки, выкрики "браво!".
- Рехнулся он, что ли, этот Оньон? - высовываясь из ложи, возмутился Карпати довольно громко. - Пст! Тише там!
Вся инфернальная ложа привстала, пытаясь унять этот шум mal a propos [некстати, не к месту (франц.)]. Но известно, что нет ничего труднее, нежели убедить аплодирующих перестать. Зельмира, начиная выходить из роли, только качала головой.
Потом запела опять - и снова рукоплескания ее прервали. Это окончательна вывело артистку из себя, - совсем забывшись, она раздраженно топнула ногой.
Абеллино в бешенстве ринулся в первый ярус и схватил за горло шедшего навстречу растерянного Оньона.
- Негодяи! Что ты делаешь? Погубить нас захотел?
- Меня самого губят, сударь, - стал оправдываться бледный торговец аплодисментами. - Это чужих рук дело, чьи-то козни, превосходящие мое разумение. Это не мои молодцы, из этих я никого не знаю.
- Надо утихомирить их!
- Не ходите, сударь, это рабочие все, пьяные уврие; еще с кулаками, чего доброго, полезут.
Абеллино волосы на себе рвал с отчаяния.
Наконец, видя, что допеть негромкую свою арию из-за непрерывных рукоплесканий все равно не удастся, Зельмира, быстро найдясь, исполнила бравурный финал из какой-то другой популярной оперы. Успех превзошел всякое ожидание. Любимице все ведь прощается, все сходит с рук.
В восторге от столь блистательной победы юные титаны, едва упал занавес, кинулись на сцену, оторвали по листку от своих букетов, которые как раз сгребали два служителя, потом, прямо в костюме Зельмиры, усадили артистку в экипаж, выпрягли лошадей и с энтузиазмом впряглись в него сами, доставив ее домой. Там победительница переоделась, чтобы с толпой поклонников вернуться в театр и уже из ложи насладиться второй частью своего триумфа: провалом соперницы.
Тем временем сцену подготовили к следующему представлению; началась увертюра. С лорнетами у глаз все с любопытством ждали, когда же подымется занавес. Еще бы: событие незаурядное. Примадонна театра и сколько уже лет фаворитка публики сегодня будет освистана! Увидеть наконец попранной, поверженной ту, кого с давних пор окружало только поклонение, - в этом есть нечто, приносящее даже своего рода удовлетворение. Значит, и ты всего лишь ломкая, податливая игрушка в наших руках.
Увертюра кончилась, за занавесом послышался колокольчик распорядителя. В одной из лож оглушительно хлопнули дверью и начали громко смеяться и разговаривать. Это была ложа Каталани, - судя по всему, она от души веселилась в компании юных титанов. Шум доносился тем явственней, что с последним ударом барабана все кругом обратились в слух.
Занавес медленно поднялся. Из глубины величественно выступила высокая фигура. Лик, поступь и осанка - поистине королевские. Сама Семирамида не могла быть прекрасней и величавей, когда предстала пред своими судьями, перед врагами, чтобы вернуть или утратить навсегда свою державу. Да и сейчас ведь о том же шла речь: о троне, о владычестве, о державе.
Глубокая тишина царила в зале, в одной только ложе громко болтали. Не слышалось и шиканья; шикать ведь начинают, когда актер уже приблизится к рампе.
Жозефине это хорошо было известно; но ничто в ее облике не выдавало колебаний или смущенья. Смело вышла она на авансцену.
В эту минуту сидевшая с герцогиней Немурской герцогиня Беррийская сильным, звучным голосом воскликнула, подавшись вперед из ложи:
- Au nom de la reine! [От (от имени) королевы! (франц.)]
И венок из иммортелей на глазах у публики полетел на сцену, к ногам артистки.
Тотчас же из первого яруса мужской голос прокричал:
- Au nom du peuple! [От (от имени) народа! (франц.)]
И к ногам ее упал другой венок: простой лавровый.
Публику будто подменили: грянул такой гром аплодисментов, что Каталани отпрянула испуганно в глубь ложи, как от взрыва.
Публика, она столь же несправедлива, сколь и великодушна в своих порывах, которым поддается мгновенно, наподобие гибкой мембраны.
Госпожа Мэнвилль ко всему была готова, только не к этому. Два венка брошены ей, оба от особ столь высоких, пред чьим именем всяк склоняется с почтением, - одно упоминание коих, как по волшебству вернуло ей расположение публики. И, наклонясь, чтобы поднять эти венки, превзошедшие своим благоуханьем все покупные букеты, забыла она про свою роль и пала на колени. Многие полагают, будто настоящими слезами на сцене не плачут. Но эти были истинными: слезами благодарности - безмерной, безграничной.
Рукоплесканьям не было конца - к счастью для Жозефины; ибо начни она петь в эту минуту, голос изменил бы ей.
Но вот выплакалась, овладела собой. Показался служитель с серебряным подносом - водрузить на него венки. Жозефина шепнула ему, чтоб известил поскорей обо всем больного мужа, и опять стала Семирамидой, владычицей стран и сердец...
Никогда она еще так не пела! Голос ее то звенел нежной стеклянной гармоникой [старинный музыкальный инструмент: стеклянные чашечки, которые звучат от прикосновений музыканта], то жаловался печальной флейтой, затмевая звучанье оркестра. А вот опустился на октаву, на две и благородным, полнозвучным колоколом отозвался в сердцах. Это не искусничанье было, а искусство; не чары, не соблазн, но сам идеал, сама поэзия!
Публика, словно раскаиваясь в своем непостоянстве, теперь была растрогана вдвойне.
Есть особый род восхищения: некий безотчетные, безымянный гул, неподдельный, как золото, и потому столь же драгоценный. Этот неясный гул - то невольный вздох, то поощрительный шепот, - который красноречивей всяких рукоплесканий, и сопровождал от начала до конца первую арию Жозефины, не выдавшую ни тени, ни малейшего признака душевной слабости.
Инфернальная ложа онемела. Если бы пассажир, после внезапного взрыва котла идущий ко дну вместе с обломками парохода, мог описать свое состояние, лишь оно дало бы некоторое представление о чувствах юных "несравненных".