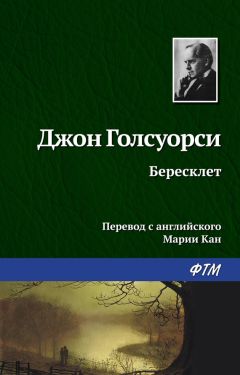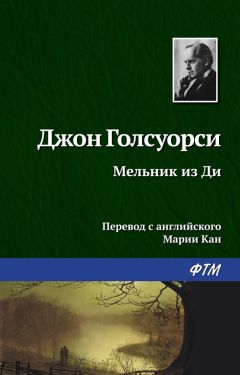- Давно тут провели эту железную дорогу?
Старик остановился, опираясь на лопату.
- Да уж тому лет десять, а может, и боле.
- Что сделали с могилами, которые были в том углу?
- А-а! Ну, нехорошо, конечно. Я и тогда был против.
- Я спрашиваю, что с ними сделали?
- Да что - перекопали, и все тут.
- А с гробами?
- Не знаю. Спросите священника. Да там все старые были могилы - лет по сто.
- Неправда. Одна была моей матери. С 1821 года.
- Ага, и верно. Помню, одна плита была поновее.
- Что с ней сделали?
Старик впервые посмотрел прямо на него, как будто только сейчас заметил что-то необычное на своих дорожках.
- Искали, кажись, владельцев, да не могли найти. Вы спросите священника. Может, он знает.
- Давно он здесь?
- В Михайлов день четыре года сравняется. Прежний-то помер, но, может, и теперешний что-нибудь знает.
Старый Джолион почувствовал себя как зверь, у которого отняли добычу. Умер! Этот негодяй умер!
- А вы-то разве не знаете, что сделали с гробами... с костями?
- Вот уж не скажу. Похоронили, верно, где-нибудь. А которые, может, доктора забрали. Я же говорю, спросите викария, он, может, знает.
И, поплевав на руки, он опять взялся за лопату.
Викарий? Но и от викария он не добился толку - тот ничего не знал, по крайней мере так он говорил, - никто ничего не знал! Лжецы - да, лжецы! - он не верил ни единому их слову. И владельцев они не искали - боялись, что им помешают! Исчезла, развеялась, - ничего не осталось от нее, кроме записи в кладбищенской книге. Над тем местом, где она лежала, протянуты рельсы, грохочут поезда. И он вынужден был в одном из этих поездов ехать обратно в Лондон, тот самый Лондон, который так опутал его сердце и душу, что он, можно сказать, предал ту, кто его родила! Но как было это предвидеть? Освященная земля! Значит, уж ничто не сохранно от посягательств Прогресса, даже умершие, покоящиеся в земле?
Он потянулся к спичкам, но сигара показалась ему горькой, и он бросил ее в пепельницу. Он не рассказал Джо об этом - и не надо ему говорить, это не для юных ушей. В таком возрасте разве он поймет, как жизнь забирает тебя в лапы, когда ты начал пробивать себе дорогу. Как одно цепляется за другое, пока прошлое не вылетает у тебя из головы, и дела все множатся, как непрерывно растущий прилив, и вытесняют чувства и воспоминания и свежее восприятие юности. Разве он поймет, как неотвратимый ход Прогресса безжалостно разоряет все тихие уголки земли. А может быть, мальчику все же следует знать - послужило бы для него уроком. Нет! Нельзя говорить - слишком больно будет признаться, что ты допустил, чтобы твою мать... Он взялся за "Таймс". Да! Какая разница! Он хорошо помнил "Таймс" тех лет, когда еще только приехал в Лондон. Печать мелкая - такую теперь и прочитать бы не сумели. Четыре страницы - парламентские дебаты и десятка два объявлений - от тех, кто предлагает работу, и от тех, кто ее ищет. А теперь смотри, какой пышный - разбух, раздобрел, преуспевает - и печать в два раза крупнее прежней.
Скрипнула дверь. Что там такое? А! Чай. Жена у себя наверху, нездорова, и чай ему подали сюда.
- Скажите, чтобы отнесли наверх для миссис Форсайт, - сказал он, - и позовите мистера Джо.
Помешивай чай - высший сорт Сушонг, собственной фирмы, - он прочитал, что здоровье лорда Пальмерстона поправляется и что этот шут гороховый французский император - намерен в ближайшее время нанести визит королеве. И тут вошел мальчик.
- А! Джо! Пей, а то чай перестоится.
И пока мальчик пил, старый Джолион смотрел на него. Завтра он уедет в эту знаменитую школу, где готовят премьер-министров, и епископов, и прочих тому подобных, где мальчиков учат хорошим манерам - будем во всяком случае надеяться, что так, - и презрению к коммерции. Гм!.. Неужели мальчик научится презирать собственного отца? И внезапно в старом Джолионе возмутилась его врожденная честность и та особая, присущая ему, независимость, за которую все его уважали и немножко боялись.
- Джо, ты только что спрашивал меня о твоей бабушке. Но я одного тебе не сказал. Когда я через тридцать лет после ее смерти поехал, наконец, на родину, я узнал, что ее могилу раскопали, чтобы очистить место для железной дороги. От нее и следа не осталось, и никто не мог или не хотел мне сказать, что с ней сделали.
Мальчик держал ложечку над чашкой и смотрел на отца; вид у него был такой невинный и невозмутимый. Потом лицо его вдруг порозовело, и он сказал:
- Как нехорошо, папа!
- Да. Какой-то хулиган священник это позволил, а нас не предупредил. Но это моя вина, Джо; я должен был давно туда съездить, и вообще ездить почаще и присматривать за ее могилой.
И опять мальчик ничего не сказал. Он жевал печенье и смотрел на отца. А старый Джолион подумал: "Ну вот, я ему и сказал".
Вдруг мальчик заговорил:
- Папа, а ведь это то самое, что сделали с мумиями. Мумии! Какие еще мумии? Ах, эти, в Британском музее. Которых они сегодня осматривали... И старый Джолион умолк, мысленно глядя вдаль поверх зыбучих песков времени. Странно! Ему это и в голову не пришло. Странно! А вот мальчик сразу заметил! Гм! Что же это значит? И в сознании старого Джолиона шевельнулась смутная догадка о каком-то духовном различии между его поколением и поколением сына. Дважды два - четыре. А он этого не видел! Очень странно! Но в Египте, говорят, сплошь пески - может быть, эти покойники как-то сами собой поднялись на поверхность. И кроме того, хотя, как он сам сказал, возможно, что и сейчас еще живы потомки этих мумий, но это же все-таки не сыновья и не внуки! И тем не менее! Мальчик уловил связь, а он нет. Он коротко спросил:
- Кончил укладываться, Джо?
- Да, папа. Только как вы считаете, можно мне взять с собой моих белых мышей?
- Ну-у... Вот уж не знаю, сынок. Пожалуй, они еще не доросли до Итона. Это, знаешь, такая серьезная школа.
- Да, папочка.
У старого Джолиона сердце перевернулось в груди. Бедный малыш! Что его там ожидает?
- А у вас, папа, были белые мыши?
Старый Джолион покачал головой.
- Нет, Джо. В мое время мальчики еще не были такими образованными.
- А интересно, у этих мумий были? - сказал молодой Джолион.
ТИМОТИ НА ВОЛОСОК ОТ ГИБЕЛИ, 1851.
Перевод О. Холмской
После смерти Тимоти Форсайта в 1920 году его племянник Сомс Форсайт утвердил завещание своего дяди - то самое завещание, которое, если бы не закон об ограничения процентов, должно было с течением лет дать такие поразительные результаты. В свое время Сомс пытался втолковать Тимоти, что то, чего он хочет, неосуществимо в силу этого закона. Но Тимоти только сердито уставился на него и сказал: - Вздор! Делай, как я говорю. - И Сомс сделал. Во всяком случае, решил он, наращивание процентов будет доведено до предела, допустимого по закону, а это - максимальное приближение к тому, чего старик добивался. Когда, по своей обязанности душеприказчика, Сомс приступил к осмотру бумаг, оставшихся после покойного, он получил еще одно наглядное подтверждение господствующей страсти Тимоти - его постоянного стремления обезопасить себя от малейшей случайности. За всю свою долгую жизнь он не уничтожил ни одной бумажки. Оплаченные счета, чековые книжки с аккуратно вложенными в них погашенными чеками, рассортированными по датам, в порядке поступления из банка, - всего этого за семьдесят с лишком лет накопились целые горы, и все это за крайней давностью - так как еще до войны Тимоти уже кормили с ложечки и он не подписывал никаких чеков - было немедленно предано сожжению. Были еще груды бумаг, касающихся дел по издательству, с которым Тимоти распрощался в 1879 году, предпочтя поместить весь свой капитал в консоли, и которое, к счастью для Сомса, вскоре после того умерло естественной смертью. Это все тоже отправилось в камин. Но затем - и это сулило уже куда больше хлопот - обнаружились целые ящики частных писем и всяческих сувениров - наследие не только самого Тимоти, но и трех его сестер, живших при нем после смерти их отца в 1850 году. С добросовестностью, отличавшей Сомса от многих других обитателей нашего недобросовестного мира, он решил сперва все это пересмотреть, а потом уже уничтожить. Задача была не из легких. Чихая от пыли, он развязывал одну за другой грязные связки пожелтевших писем, вчитывался в паутинные почерки викторианской эпохи и лишь изредка получал маленькое развлечение, когда в потоках сентенциозной болтовни проскальзывала какая-нибудь живая подробность, бросавшая новый свет на того или другого члена семьи.
На пятнадцатый вечер - Сомс распорядился отправить все эти залежи на грузовике в Мейплдерхем и трудился над ними дома по вечерам - он натолкнулся на то письмо, которое и составляет отправную точку нашего повествования. Письмо было вложено в пожелтелый конверт с надписью "Мисс Хэтти Бичер", писано рукой Тимоти, снабжено датой "Мая 27-го 1851 года" и, очевидно, так и не было отправлено. Хэтти Бичер! Да ведь это девичья фамилия Хэтти Чесмен, пожилой, но бойкой и слегка накрашенной вдовушки, которая в дни юности Сомса была другом их семьи. Умерла весной 1899 года - это Сомс отлично помнил - и оставила его тетушкам Джули и Эстер по пятьсот фунтов стерлингов.