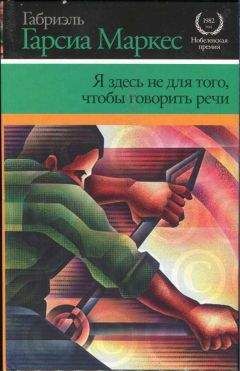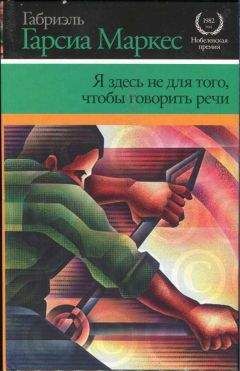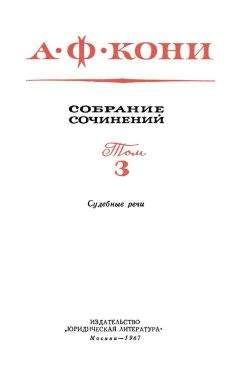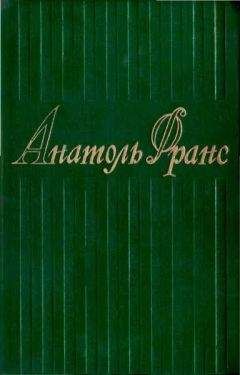Существо почесало себе живот и запело еще громче.
- А, это у тебя такая мания! - сказал путник. - Жаль мне тебя, но, конечно, ты не виновато.
Он пошел дальше и скоро увидел еще одно существо, которое пело что-то пискливым альтом. Оно ходило и ходило кругами в рощице чахлых деревьев, и путник заметил, что оно ни разу не ступило за пределы рощицы.
- Ты правда не можешь выражать свои чувства иначе? - спросил путник.
И в эту минуту на маленькое существо посыпался целый град жестких орешков, которые оно тут ж принялось поедать с великой жадностью. Путник разгрыз один из орехов: ядро в нем было крошечное и отдавало гнилью.
- И почему ты все бродишь под этими деревьями? - спросил он. - Орехи здесь невкусные.
Но маленькое существо вместо ответа опять забегало кругами.
- Надо полагать, - сказал путник, - что скверные орехи для тебя лучше, чем ничего. Если ты выйдешь из этой рощи, то умрешь с голоду?
Подслеповатое существо отчаянно взвизгнуло. Путник принял это за утвердительный ответ и пошел дальше. Вскоре он увидел под большим деревом третье маленькое существо - оно пело очень громко, а вокруг стояла тишина, нарушаемая только тихими звуками, словно где-то посапывали крошечные носы. При его приближении существо умолкло, и тотчас сверху посыпались огромные орехи. Путник попробовал их - они были сладковатые на вкус и очень маслянистые.
- Зачем ты пело так громко? - спросил он. - Ты ведь не можешь съесть все эти орехи. Нет, в самом деле, ты поешь гораздо громче, чем нужно. Ну же, отвечай!
Но подслеповатое маленькое существо опять запело во весь голос, и крошечные носы засопели так громко, что путник поспешил прочь. В сумерках этого леса ему попалось еще немало подслеповатых маленьких существ, и наконец одно такое, что казалось совсем уже слепым, но пело голосом негромким, нежным и чистым, в полной тишине. Путник сел на землю и стал слушать. Он слушал долго и не замечал, что сверху не упало ни одного ореха. Но вдруг послышался слабый шелест, и он увидел на земле три небольших овальных орешка. Он разгрыз один из них. Орех оказался на диво душистый и вкусный. Путник взглянул на маленькое существо, стоявшее с запрокинутым кверху лицом, и сказал:
- Скажи мне, маленькое слепое сладкогласное существо, где ты научилось петь?
Маленькое существо чуть повернуло голову, словно прислушиваясь, не упадет ли орех.
- И правда, - сказал путник, - поешь ты звонко, но неужели это все, что тебе достается в пищу?
Маленькое слепое существо улыбнулось...
Лес, в котором бродим мы, писатели, окутан сумерками, и время от времени, хотя все это уже не раз было сказано, нам стоит напоминать себе и другим, почему там так мало света; почему так много у нас дурной и фальшивой беллетристики; почему спрос на нее так велик. Живя в мире, где спрос вызывает предложение, мы, писатели, составляем исключение из этого правила. Ибо подумайте, каким образом мы, как общественная группа, рождаемся на свет. В отличие от людей любой другой профессии от нас не требуется специального образования. Мы не кончаем особого учебного заведения, не сдаем экзаменов, не удостаиваемся степени, не получаем диплома. Нас не заставляют изучать то, что следовало бы изучать, мы вольны заполнять свое сознание всем, чего изучать не следовало бы. Как грибы, мы вырастаем за одну ночь - перо в руке, в голове очень мало, а в сердце и вовсе невесть что!
Мало кто из нас садится за первую книгу спокойно - что-то в нас требует выражения и не терпит отсрочки. Это - начало порочного круга. В первой нашей книге нередко что-то есть. Мы искренне стараемся что-то выразить. Правда, выражать мы ничего не умеем, потому что не учились этому, но то, что мы хотели выразить, пробивается на страницах - как отзвук настоящего опыта, настоящей жизни - ровно настолько, чтобы привлечь неискушенного читателя, ровно настолько, чтобы позволить великодушной прессе сказать: "От автора можно ждать многого". Теперь мы отведали крови и вошли во вкус. Те из нас, что были обременены неинтересной работой, спешат ее бросить, те, у кого не было никаких занятий, теперь нашли себе занятие по душе; очень немногие сохраняют и старую работу и новую. Какую бы из этих линий мы ни выбрали, поспешность, с какой мы ее выбираем, нас губит. Ибо часто оказывается, что в нас ничего и не было, кроме той первой книги, которую мы не умели написать, и, выразив в ней то, что чувствовали, мы вынуждены во второй, третьей, четвертой книге либо перепевать все ту же тему - как подогревают остатки вчерашнего обеда, чтобы сегодня подать на завтрак, - либо выжимать из своего обычно банального воображения жиденькие фантазии, в которых те, кто не пытается думать самостоятельно, усматривают и вдохновение и жизненность. Лишь бы выпустить книгу, говорим мы, какой угодно ценой, лишь бы она вышла!
Такой безнравственный образ действий принят у нас с незапамятных времен, так что пресса и публика уже привыкли ждать от нас именно этого. С незапамятных времен мы позволяем себя подгонять могучим погонщикам по имени Хлеб и Хвала, и качество того и другого нас не заботит. Вольно или невольно мы поем так, чтобы заработать орехов в своем сумеречном лесу. Мы настраиваемся не на ключ "Хорошо ли это?", а на другой: "Прибыльно ли это?", и орехи сыплются на нас дождем. Это так естественно! Можем ли мы поступать иначе, когда у нас нет ни дисциплины, ни критериев, когда мы начинаем без той основы, какую дает учение? Изредка среди нас появляется крупный талант, изредка появляется человек, наделенный исключительным упорством, который учится сам, наперекор всем силам, работающим на его погибель. Но таких, кто не печатается, пока не научится писать, и не пишет, пока не почувствует в себе чего-то, о чем стоило бы писать, так мало, что их можно пересчитать по пальцам трех, самое большее четырех рук; по счастью, все мы - или почти все - причисляем себя к этой кучке.
Принято говорить, что публика получает то, чего хочет. Ну конечно, публика будет получать то, чего хочет, если ей будут это давать. Если бы сейчас отнять у нее то, чего она хочет, публика, широкая публика, согласно вполне понятному и естественному закону, приняла бы худшее из того, что осталось; если бы отнять и это, она приняла бы следующее снизу, и так до тех пор, пока не стала бы принимать относительно хороший товар. Публика, широкая публика, - это безвольный и беспомощный потребитель того, чем ее снабжают, и так будет всегда. Стало быть, публику нельзя винить за производство дурной, фальшивой беллетристики. Нельзя винить и прессу, потому что пресса, как и публика, вынуждена брать то, что ей предлагают; критики, как и мы сами, по большей части не имеют специального образования, не проходят проверки на годность, не получают удостоверений; они не в состоянии нас вести, это мы их ведем, ибо мы-то можем прожить без критиков, а вот критики без нас бы умерли. Итак, прессу винить нельзя. Но нельзя винить и издателя: издатель издает то, что ему предлагают. Правда, если бы он ничего не издавал на комиссионных началах, это была бы с его стороны великая заслуга перед государством, но неразумно было бы ожидать от него этой заслуги, поскольку мы сами предлагаем ему книги и уговариваем его их печатать. Стало быть, мы не можем винить и издателя.
Винить мы должны тех, кто явно виноват, то есть самих себя. Мы сами создаем спрос на дурную и фальшивую литературу. У многих из нас есть постоянные доходы, и для таких оправдания нет. У многих никаких доходов нет; для таких, раз они уже пустились по литературной дорожке, оправдания есть, часто трагического свойства, но тем больше у них было оснований не пускаться в путь, не пройдя предварительно курс самообразования. Как ни верти - вина лежит на нас. Если мы не будем сами себя отдавать в ученье, пока мы молоды; если по-прежнему будем печататься, прежде чем научимся писать без ошибок; если не станем подавлять свои желания и будем бегать, не научившись ходить; если не усвоим хотя бы того, как не нужно писать, - мы так и будем бродить по лесу, распевая свои бессмысленные песни.
Но поскольку для того, чтобы научиться писать, нет другого пути, как писать, будем писать и сжигать написанное; тогда мы очень скоро либо бросим это занятие, либо начнем писать то, что сжигать не понадобится!
А сейчас мы пускаемся в сумеречный лес литературы без компаса, без карты, без дороги или хотя бы следа - и так и не выходим на простор.
Да, приходится сказать словами французского поэта:
"Et nous, jongleurs inutiles, frivoles joueurs de luth!.."
1906 г.
АЛЛЕГОРИЯ О ПИСАТЕЛЕ
Перевод М. Лорие
Жил-был однажды принц Фелицитас, и собрался он в далекое путешествие. Дело было осенним вечером, в небе светило лишь несколько бледных звезд да серп месяца, узкий, как срезанный ноготь. И когда принц ехал предместьем своей столицы, то во мраке улиц ему ничего не было видно, кроме белой гривы его янтарного коня. Проезжая малознакомым ему кварталом, он с удивлением заметил, что конь не бежит, как обычно, легкой, уверенной иноходью, а осторожно переступает с ноги на ногу временами же останавливается, изогнув шею и навострив уши, словно почуяв во тьме что-то невидимое и страшное; а справа и слева всадник слышал смутные шорохи и возню, и холодные сквознячки, словно поднятые чьими-то крыльями, овевали его щеки.