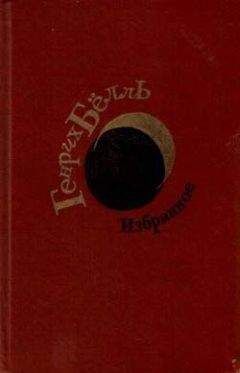На следующее утро, часов около восьми, Хольвег позвонил Брезелю и распорядился, чтобы тот не писал о деле Грулей, а поехал бы в соседний город, где в этот самый час начался сенсационный процесс детоубийцы Шевена. Брезель в первую минуту удивился столь раннему звонку своего шефа, который слыл отъявленным соней, но потом сообразил, что отъявленные сони по большей части поздно ложатся спать, и решил, что Хольвег, по всей вероятности, только сейчас вернулся домой. Вдобавок голос Хольвега показался ему что-то чересчур энергичным, почти повелительным; оба эти обстоятельства его озадачили. Вообще-то Хольвег был человеком покладистым и спокойным, волновался он только, когда в один день поступало три или четыре отказа от подписки.
Брезель не стал долго размышлять над этими минимальными отклонениями от нормы, побрился, позавтракал и поехал на своей малолитражке в соседний город; он немного нервничал, не зная, удастся ли ему найти место для машины, и еще потому, что побаивался королей международного репортажа, которые съехались туда со всех концов света. Хольвег его заверил, что пропуск для него уже приготовлен. Раздобыл его ранним утром путем телефонных переговоров все тот же депутат, состоявший членом парламентских комитетов по делам обороны и прессы.
Дело Грулей слушалось в самом тесном из трех небольших судебных залов, в котором присутствовало не более десяти человек, причем все они состояли в родстве с обвиняемыми, свидетелями, экспертами, членами суда или другими участниками процесса. Местным жителем не был лишь один из публики, стройный, не броско, но изящно одетый мужчина средних лет, известный только председательствующему, прокурору и защитнику как член судебной палаты господин Бергнольте из соседнего города.
Комната для свидетелей была некогда учительской в четырехклассной школе, построенной в восьмидесятых годах прошлого столетия и в начале этого века превращенной в шестиклассную; в конце пятидесятых годов школа переехала в новое здание, старое же было передано суду первой инстанции, бедность которого давно уже вошла в поговорку, ибо ранее он усердно вершил правосудие в бывшей школе унтер-офицеров. В этой комнате, рассчитанной на шесть, от силы на восемь человек, теснилось четырнадцать свидетелей самого различного социального и морального достоинства: старый священник Кольб из Хузкирхена, две его прихожанки, одна из которых слыла женщиной баснословно добропорядочной и рьяно преданной церкви, другая же пользовалась репутацией сверхчувственной особы (причем приставка «сверх», усиливающая прилагательное «чувственный», здесь применялась отнюдь не в значении чего-то метаэмпирического), кроме них — офицер, фельдфебель и ефрейтор бундесвера, экономист, судебный исполнитель, чиновник финансового ведомства, коммивояжер, окружной дорожный инспектор, старший мастер столярного цеха и содержательница бара.
Когда суд начался, судебный пристав Штерк, специально командированный сюда из близлежащего большого города, вынужден был запретить свидетелям прохаживаться по вестибюлю: если в зале суда говорили громко, в вестибюле было слышно каждое слово.
Это обстоятельство уже не раз приводило к безрезультатным перепалкам между судьей д-ром Штольфусом и вышестоящей инстанцией. Когда слушались дела о кражах и авариях или велись тяжбы о наследстве, суд мог установить истину, лишь используя противоречия в свидетельских показаниях, и потому судебный пристав бывал вынужден обходиться со свидетелями куда более сурово, чем его коллега в зале суда с обвиняемыми.
Случалось даже, что в комнате для свидетелей дело доходило до рукоприкладства, грубой брани, взаимной дискредитации и взаимных подозрений. Единственным преимуществом отслужившей свой век школы было то, что, как не раз уже иронически упоминалось в заявлениях, подаваемых в вышестоящую инстанцию, «в туалетах там не было недостатка».
В близлежащем большом городе[2], где вышестоящая судебная инстанция помещалась в новом здании с явно недостаточным числом туалетов, стало уже стандартной шуткой советовать каждому, кто ворчал на это неудобство, взять такси и съездить за двадцать пять километров в Бирглар, изобилующий подведомственными министерству юстиции туалетами.
Среди публики в зале суда царило настроение как перед спектаклем в любительском театре, поставившем классическую пьесу, — благосклонная напряженность, хорошо темперированная благодаря отсутствию риска в этом начинании: всем известен сюжет, известны действующие лица и исполнители, никаких неожиданностей не предвидится, и тем не менее все напряжены; окажется спектакль неудачным — беда невелика, разве что любительское рвение растрачено понапрасну, окажется хорошим, — что ж, тем лучше. Всем присутствующим были известны результаты дознания и предварительного следствия благодаря болтливости причастных и непричастных к этому делу лиц — явление, неизбежное в провинциальных городках. Каждый знал, что оба обвиняемых полностью признали свою вину, больше того, как на днях сказал прокурор в кругу своих друзей, оба они оказались самыми откровенными из всех встречавшихся ему обвиняемых, даже «побили рекорд откровенности». Еще во время предварительного следствия они безоговорочно соглашались с показаниями экспертов и свидетелей. В общем, добавил прокурор, судебное разбирательство, как видно, пройдет без сучка и задоринки, что, разумеется, не слишком интересно опытному юристу.
Лишь трое из сидевших в зале суда знали то, что, конечно, уже было известно «наверху», — иными словами, в близлежащем большом городе, а именно: тамошние власти сочли за благо включить в обвинительный акт лишь нанесение материального ущерба и грубое бесчинство, без упоминания о поджоге, далее, предоставили судье Штольфусу возможность единоличного решения по этому делу — короче говоря, странным образом «спустили дело Грулей на тормозах». Двумя посвященными в эти хитросплетения были супруга прокурора д-ра Кугль-Эггера, всего несколько дней назад, после того как ее мужу удалось наконец найти квартиру, перебравшаяся в Бирглар, и супруга адвоката Гермеса, дочь местного коммерсанта, которая еще накануне вечером выложила репортеру Брезелю все, что ей удалось узнать. А именно: «наверху» было решено слушать дело без судебных заседателей и уж конечно не в судебной коллегии, но так как каждому ясно, что ни один адвокат, зная, что его подзащитных будет судить такой старый испытанный «рыцарь гуманизма», как Штольфус, не потащит их в уголовный суд к этому «шелудивому псу» Прелю, то «наверху» постановили — «не раздувать» дело Грулей. За этим, надо думать, кроется явная поблажка, а в какой-то мере и просьба о поблажке, но Гермес, ее муж, решил оставить за собой право, смотря по тому, как обернется дело, не принимать ни поблажки, ни просьбы о таковой и настаивать на новом рассмотрении хотя бы при участии судебных заседателей.
Третий человек из публики, информированный об этих хитросплетениях, член судебной палаты Бергнольте, никогда бы не разрешил себе вдаваться в подобные размышления. Обладая недюжинной восприимчивостью и таким знанием буквы закона, что оно вошло в поговорку среди судейских чиновников, он, конечно, понимал, что облеченная властью и призванная охранять и восстанавливать право юстиция в данном случае, как выразился один его коллега, «ушла в кусты». Но такие понятия, как «поблажка» или «просьба о поблажке», в этой связи он решительно отверг.
Когда судья и прокурор вошли и заняли свои места, все присутствующие встали, однако в том, как они встали и снова уселись, чувствовалась фамильярная небрежность, с какой разве что монастырская братия выполняет давно знакомый и привычный обряд. Не произошло в зале большого движения и тогда, когда ввели обвиняемых. Почти все присутствующие хорошо знали их и знали также, что в течение десяти недель предварительного заключения самая хорошенькая девушка, когда-либо расцветавшая в Биргларском округе, носила им завтрак, обед и ужин из лучшего ресторана на площади. Так хорошо они не ели уже двадцать два года, со дня смерти жены и матери. Поговаривали даже, что, когда в камере не было других заключенных, которые могли бы проболтаться, Грулей, случалось, звали в комнату судебного пристава Шроера посмотреть какую-нибудь особо интересную телевизионную передачу. Шроер и его жена, правда, опровергали эти слухи, но не слишком энергично.
Из всей публики только жена прокурора и Бергнольте не были знакомы с обвиняемыми. Жена прокурора за обедом объявила мужу, что прониклась к ним живейшей симпатией. Бергнольте вечером заметил, что «отчасти даже против воли вынес о них впечатление самое положительное». У отца и сына был здоровый, спокойный вид, да и одеты они были хорошо и опрятно. Казалось, они не только сохраняют самообладание, но и отлично настроены.