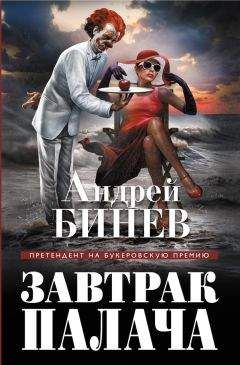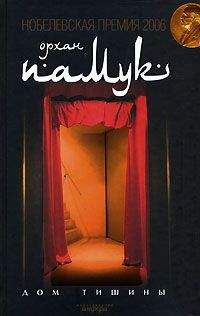– Что происходит? – закричала Джейлян.
– Все, все, мы уже возвращаемся, – ответил Фикрет.
И, не подбирая тех, кто упал в воду, он повел катер обратно. Другой катер подобрал тех, кто был в воде, и догнал нас. И вылили на нас еще ведро воды.
– Наперегонки! Ну-ка, вы, гады несчастные, обгоните, попробуйте!
Оба катера приблизились друг к другу и некоторое время плыли рядом с одной скоростью, а потом они рванулись с места по крику Гюльнур. Сразу стало ясно, что другой катер обгонит наш, но Фикрет, ругаясь, велел всем пересесть в носовую часть, чтобы сильнее разогнаться. Но вскоре те нас обогнали, и, когда они прыгали от радости, что победили, Джейлян скомкала свое мокрое полотенце и яростно швырнула в них, но полотенце упало в море. Мы тут же успели подплыть к полотенцу, пока оно не утонуло, но никто не потянулся достать его из воды, и катер медленно проплыл по нему, как утюг, утопив его окончательно. Они что-то кричали друг другу. Потом поплыли за паромом из Дарыджи в Ялову[28], догнали и два раза с воплями обплыли его вокруг. А потом они стали играть в игру, которую называли «поплавки»: два катера подплывают друг к другу, между ними свешивают автомобильные покрышки и полотенца, а потом катера, как машины, сталкиваются то кормой, то носом. После этого оба катера, совершенно не снижая скорость, оказались среди голов купавшихся людей, с криками кинувшихся в воде врассыпную между катерами. Глядя на испуганные лица людей, я пробормотал:
– А если задавим кого-нибудь?
– Ты учитель? – крикнула Фава. – Лицейский учитель, да?
– Он что, учитель? – спросила Гюльнур.
– Терпеть не могу учителей! – сказала Фава.
– Я тоже! – сказал Джунейт.
– Он и не пил, – сказал Туран. – Строит из себя самого умного.
– Пил я. Выпил больше тебя, – сказал я.
– На одной таблице умножения далеко не уедешь.
Я посмотрел на Джейлян, она не слышала, и я не обратил на их слова внимания.
Покатавшись еще немного, катера повернули назад, скоро мы доплыли до пристани у дома Джейлян и причалили. Когда все выходили из катеров, я увидел на пристани женщину в халате, сорока с лишним лет, – это была ее мать.
– Ребята, вы совсем промокли, – сказала она. – Где это вы так? Заинька, а где твое полотенце?
– Потеряла, мама, – ответила Джейлян.
– Ну разве так можно, ты же простудишься, – сказала мать.
Джейлян безразлично махнула рукой и сказала:
– А, мама! Познакомься! Это Метин! Его семья живет в том самом старом доме. В том загадочном тихом старом доме.
– В каком старом доме? – спросила мать.
Мы пожали друг другу руки, она спросила, чем занимается мой отец, я ответил и добавил, что поеду в Америку учиться в университете.
– Мы тоже собираемся купить дом в Америке. Здесь теперь неизвестно, что будет. Где в Америке лучше всего?
Я сообщил ей некоторые географические сведения, рассказал о климатических особенностях, демографической ситуации и назвал некоторые цифры, но мне трудно было понять, слушает ли она меня, потому что она смотрела не на меня, а на мои плавки и волосы так, будто они находились здесь независимо от меня. Потом мы немного поговорили об анархии и еще о чем-то вроде нынешней неблагоприятной политической ситуации в Турции, как вдруг Джейлян сказала:
– Мама, этот умный парень и тебя заговорил?
– Ах ты, бессовестная! – сказала ее мать.
Но тут же сбежала, не дослушав меня. А я пошел, сел в шезлонг и задумался, глядя на Джейлян, которая ныряла и выходила на берег, потом снова ныряла и снова выходила, и на других. Затем остальные тоже расселись по шезлонгам, стульям и на бетонном полу, и началось то невероятное оцепенение, что бывает под солнечными лучами, а я все еще продолжал думать. Перед глазами у меня оживала вот какая картина:
Я представил, что там, среди наших бессмысленных обнаженных ног, вытянутых вдоль шезлонгов и на бетонном полу, есть часы. Пока я, лежа спиной на безликом бетоне, лицом вверх, смотрел на неподвижное солнце в окружении наших слов, печальной глупой музыки или нашего безмолвия, не ощущая ни его начала, ни конца, ни сути, ни глубины или даже поверхностности, часовая и минутная стрелки на этих часах перепутались, и им пришлось признать, что они теперь не смогут измерять время, и они забыли то, что когда-то измеряли, и они потеряли его; таким образом, мысли часов ничем не отличались от мыслей человека, который не думал ни о чем, но пытался понять, о чем размышляют часы.
А потом я подумал о том, что и Джейлян люблю, размышляя похожим образом. И я думал об одном и том же до самой полуночи.
В дверь моей комнаты постучали. Я закрыла глаза и не издала ни звука, но дверь открылась. Это была Нильгюн.
– Бабулечка, вам хорошо?
Я ничего не ответила. Мне захотелось, чтобы она посмотрела на мое бледное лицо и неподвижное тело и поняла, что я мучаюсь от боли.
– Вам уже лучше, Бабушка, у вас лицо порозовело.
Я открыла глаза и подумала о том, чего им никогда не понять, о том, что они будут только улыбаться своими фальшивыми улыбками, предлагая пластмассовые бутылочки одеколона, а я останусь совершенно одна со своей болью, прошлым и мыслями. Ладно, на этой прекрасной, чистой мысли оставьте меня.
– Как вы, Бабушка?
Но так просто они меня не оставят. А я не буду им ничего отвечать.
– Вы хорошо поспали? Хотите чего-нибудь?
– Лимонаду! – внезапно выпалила я, а когда Нильгюн ушла, я опять осталась со своими прекрасными, чистыми мыслями.
На моих щеках и в сознании жар пробуждения от теплого сна. Я вспомнила свой сон, смутный образ сна: будто бы я была маленькой и сидела в поезде, ехавшем из Стамбула: и пока поезд ехал, я видела сады, старые, прекрасные сады Стамбула; один за другим, – а Стамбул вдалеке, и вокруг нас сады, а вокруг них – еще сады, а за ними еще. И тогда я вспомнила о тех первых днях: о повозке с лошадьми, о ведре, от которого скрипел журавль колодца, о швейной машине, о том исполненном покоя времени, когда стучала педаль швейной машинки; потом я вспомнила о смехе, о солнце, о красках, о нежданном веселье, о теперешнем миге, переполненном настоящим. Я вспомнила, Селяхаттин, о тех наших первых днях: когда я заболела в поезде и мы вышли в Гебзе… Как, намучившись в комнатах постоялого двора, мы впервые приехали в Дженнет-хисар, потому что здесь хороший климат… Пристань, заброшенная после того, как построили железную дорогу, несколько старых домов, пара-тройка курятников. «Но ведь какой тут чудесный воздух, правда, Фатьма? Совсем не нужно ехать далеко! Давай поселимся здесь! И к Стамбулу близко будем – к твоим родителям, ты не будешь так грустить, а когда правительство свергнут, мы тут же вернемся! Давай построим здесь дом!»
В те времена мы подолгу гуляли вместе. Селяхаттин говорил: «В жизни нужно так многое сделать, Фатьма; давай я чуть-чуть покажу тебе мир, покажу, какой ребенок в твоей утробе, пинается ли он; и я знаю, что это будет мальчик, я назову его Доан[29], чтобы этот новорожденный напоминал всем нам о новом мире, чтобы жить ему с победой и верой в себя и верить в этот мир, насколько хватит ему сил! Береги его здоровье, Фатьма, и мы с тобой тоже будем беречь его и жить долго; какое невероятное место – наша земля, правда? – эта трава, эти смелые деревья, что вырастают сами по себе; ведь человек не может не восхищаться природой; давай и мы, как Руссо, жить в объятиях природы, давай будем держаться подальше от тех, кто далек от природы, – от подхалимов-пашей и глупых падишахов, давай посмотрим на все еще раз с помощью нашего разума. Как приятно хотя бы просто думать об этом! Ты устала, милая, возьми меня под руку, посмотри, как прекрасны эта земля и небо, я так рад, что избавился от всего этого стамбульского двуличия, что готов написать Талату благодарственное письмо! Забудь ты всех этих стамбульских дурней, пусть они гниют в своих преступлениях, страданиях и пытках, которые они с удовольствием устраивают друг другу! Мы будем жить здесь и создадим здесь новый мир, размышляя о новых, простых, свободных, счастливых и совершенно новых вещах; клянусь тебе, Фатьма, это будет мир свободы, доселе совершенно не виданный Востоком, снизошедший на землю рай разума, и мы сделаем его гораздо лучше, чем на Западе, – ведь мы видели их ошибки, мы не станем заимствовать их недостатки, и даже если наши сыновья не увидят здесь этого рая, то наши внуки, клянусь тебе, будут жить в нем здесь, на этой земле! Знаешь, и еще: мы обязательно должны дать хорошее образование нашему будущему ребенку, он никогда не будет у меня плакать, я никогда не буду учить ребенка тому, что зовется страхом, той самой восточной грусти, плачам, пессимизму, пораженчеству и этому ужасному восточному угодничеству; мы вместе будем заниматься его воспитанием, мы вырастим его свободным человеком; ты же понимаешь, что это значит, молодец; вообще-то я тобой горжусь, Фатьма, я уважаю тебя, я воспринимаю тебя как свободного, независимого человека, я не считаю тебя наложницей, домашним существом, рабыней, какими другие считают своих жен; мы равны с тобой, милая моя, ты понимаешь это? Но теперь пойдем домой; да, жизнь прекрасна, как мечта, но нужно работать, чтобы эту мечту увидели и другие; пойдем домой».