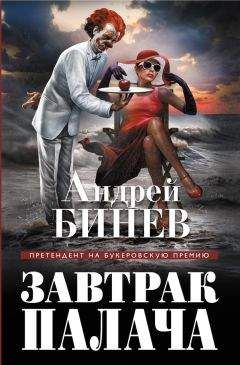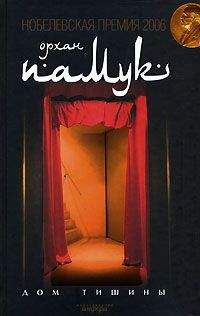– Бабулечка, я принесла вам лимонад.
Я подняла голову с подушки и взглянула.
– Поставь сюда, – сказала я, указывая на столик у кровати, и, когда она ставила, я спросила: – А почему не Реджеп принес? Лимонад ты приготовила?
– Я, Бабушка, – ответила Нильгюн. – У Реджепа руки в масле были, он обед готовит.
Я скривилась, и мне стало жаль тебя, девочка; что же мне делать – ведь надо же, карлик и тебя давно обманул; он-то уж обманет, он коварный. Я задумалась. Я размышляла о том, как он общается с ними, как он лезет в их мысли, как он всем своим мерзким, уродливым существом заставляет их задыхаться от ужасного чувства стыда и вины, и он сбивает их с толку, как сбил с толку моего Доана. Рассказывает ли он им о чем-нибудь? Я устало уронила голову на подушку и, бедная, стала думать о том страшном несчастье, что не дает мне спать по ночам.
Я представила, будто об этом рассказывает карлик Реджеп. Он говорит: да, Госпожа, я рассказываю, в подробностях, Госпожа, рассказываю вашим внукам, что вы сделали со мной, с моей бедной матерью и братом, – пусть они узнают, пусть знают. Потому что теперь, как писал мой покойный отец – замолчи, карлик!!! – хорошо, как замечательно писал Селяхаттин-бей, Аллаха теперь нет, а есть знание, и мы все можем знать, мы должны знать, и они пусть знают. Они знают. Потому что я им все рассказал, и теперь они говорят мне – бедный Реджеп, оказывается, наша Бабушка сильно издевалась над тобой и сейчас продолжает; мы очень расстроены за тебя, мы чувствуем себя виноватыми, и поэтому сейчас не мой руки, которые у тебя в масле, и не делай лимонад, не надо, не работай, посиди просто так, отдохни, вообще-то в этом доме у тебя и права есть, – вот как они говорят, потому что Реджеп им все, естественно, рассказал. Рассказал? Рассказал ли он: ребята, вы знаете, отчего ваш отец, Доан-бей, забрал у Бабушки ее последние бриллианты и продал – он же нам денег дать хотел, – сказал он так?! Я подумала об этом, и тут мне показалось, что я задыхаюсь. Я с ненавистью подняла голову от подушки.
– Где он?!
– Кто, Бабушка?
– Реджеп! Где?!
– Я же сказала, Бабушка, – внизу. Готовит еду.
– Что он тебе сказал?
– Ничего, Бабушка, – ответила Нильгюн.
Нет, не бойся, Фатьма: он не сможет рассказать, не осмелится, он коварный, но и трусливый тоже. Я взяла лимонад со столика и выпила. Но опять вспомнилась шкатулка в шкафу. Внезапно я спросила:
– Что ты здесь делаешь?
– Я же с вами сижу, Бабушка, – ответила Нильгюн. – Я так соскучилась в этом году по этому дому.
– Ладно, – сказала я, – сиди. Но с места сейчас не вставай.
Я медленно поднялась с кровати. Достала из-под подушки свои ключи, а с пола у кровати – палку и иду к шкафу.
– Бабушка, куда вы? – спросила Нильгюн. – Помочь вам?
Я не ответила. Подойдя к шкафу, остановилась и прислушалась. Засовывая ключ в замок, еще раз оглянулась убедиться – да, Нильгюн сидит. Открыла шкаф и сразу посмотрела на шкатулку – напрасно я волновалась, она здесь, совершенно пустая, ну и пусть, она все равно тут, стоит на своем месте. Затем мне кое-что пришло в голову, когда я закрывала шкаф. Я достала из нижнего ящика серебряную сахарницу, заперла шкаф и дала ее Нильгюн.
– О, Бабушка, большое спасибо, вы из-за меня вставали, утруждали себя.
– Возьми отсюда красненькую конфетку!
– Как красиво – серебряная сахарница! – сказала она.
– Не трогай!
Я вернулась к кровати, мне захотелось чем-нибудь отвлечься, но я не смогла – я стала вспоминать один из тех дней, когда я сторожила шкаф и не могла отойти от него. В тот день Селяхаттин говорил: «Разве тебе не стыдно, Фатьма? Смотри, человек приехал из самого Стамбула, чтобы нас повидать, а ты даже из комнаты не выходишь. Человек образованный, непростой. Нет, а если ты ведешь себя так потому, что он еврей, так это еще позорнее, Фатьма. После дела Дрейфуса вся Европа поняла, какая ошибка так думать». Потом Селяхаттин спустился вниз, а я смотрела на них через ставни.
– Бабушка, пейте ваш лимонад.
Я смотрела через ставни – там был какой-то согбенный человек, рядом с Селяхаттином казавшийся еще меньше. Это же ювелир с Капалы-чарши![30] Но Селяхаттин разговаривал с ним так, будто тот не мелкий торговец, а ученый, и я слышала: «Ну, Авраам-эфенди, что нового в Стамбуле, люди довольны объявлением республики?» – спрашивал Селяхаттин, а еврей отвечал: «Дела идут плохо, мой господин» – а Селяхаттин ему в ответ: «Да что вы! И торговля тоже? А ведь республика должна послужить на пользу и торговле, и всему остальному. Торговля спасет наш народ. Благодаря торговле проснется не только наш народ, а весь Восток; сначала мы должны научиться зарабатывать деньги и считать, а это означает математику. А когда торговля объединится с математикой, создадут фабрики. И тогда мы научимся не только зарабатывать, как они, но и думать, как они! Как вы считаете, чтобы жить, как они, нужно сначала начать рассуждать, как они, или же сначала начать зарабатывать деньги, как они?» И тогда еврей спросил: «Кто это „они“?» – а Селяхаттин ответил: «Конечно, европейцы, дорогой мой, кому же еще быть, конечно, жители Запада, – и спросил: что, у нас разве нет таких, кто был бы и богатым, и торговлей занимался, и был мусульманином? Вот, например, этот продавец ламп, Джевдет-бей[31], кто он, ты слышал о нем когда-нибудь?» Еврей ответил: «Слышал, говорят, этот Джевдет-бей во время войны заработал очень много денег» – и тогда Селяхаттин спросил: «Ну ладно, чего еще новенького в Стамбуле? Как ты относишься к Великой Порте? Что говорят эти дурни, кого сейчас считают новым писателем, поэтом, знаешь?» И тогда еврей ответил: «Я ничего этого не знаю, мой господин. Лучше приезжайте и сами посмотрите!» Потом я услышала, как Селяхаттин кричит: «Нет! Не приеду! Черт бы их побрал! Будь они прокляты! Им теперь совсем нечего делать. Посмотри на этого Абдуллаха Джевдета[32], какой заурядной оказалась его последняя книга, все списал из Дэлайе, а пишет будто собственные мысли и к тому же не разобравшись, что верно, а что – нет. К тому же сейчас невозможно что-либо написать о религии либо о промышленности, не прочитав Буржиньона[33]. А этот Абдуллах Джевдет и Зийя-бей[34] постоянно списывают у других, да еще и не понимают, что списывают. Вообще-то у Зийи очень слабый французский, он плохо понимает, когда читает. Я решил – опозорю их обоих, напишу статью, но кто это поймет? Да и разве стоит тратить время, которое я должен уделять своей энциклопедии, на то, чтобы пачкать бумагу из-за таких мелочей? Я уехал от всего этого, пусть они там в Стамбуле тратят силы на то, чтобы пить друг у друга кровь».
Я подняла голову с подушки и сделала еще глоток лимонада.
А потом Селяхаттин сказал еврею: «Езжай, скажи им, что я думаю о них» – а еврей ответил: «Я же их совсем не знаю, такие люди никогда не заходят в мой магазинчик» – а Селяхаттин грубо перебил его: «Знаю-знаю! Тебе и не надо ничего говорить. В тот момент, когда я закончу свою энциклопедию из сорока восьми томов, все основные идеи и слова, которые необходимо произнести на Востоке, будут произнесены. Я одним махом заполню эту огромную лакуну в идеях, все будут ошеломлены, мальчишки-газетчики на Галатском мосту будут продавать мою энциклопедию, на Банковском проспекте будет твориться полная неразбериха, на Сиркеджи[35] все передерутся, кто-то из читателей покончит с собой, но, что самое главное, народ поймет меня, люди поймут меня! И когда настанет то великое пробуждение – вот тогда я и вернусь в Стамбул, чтобы навести порядок в этом хаосе, вот когда я вернусь!» Так говорил Селяхаттин, а еврей ему ответил: «Да, мой господин, живите здесь, ведь ни в Стамбуле, ни на Капалы-чарши не осталось теперь ничего приятного. Каждый строит другому козни. Другие ювелиры непременно захотят сбить цену за ваш товар. Доверяйте только мне. По правде, дела идут ужасно, как я и говорил, но я решил – поеду-ка я и взгляну на тот товар. Уже поздно. Покажите мне теперь бриллиант. Как выглядят серьги, о которых вы писали мне?» Потом наступила тишина; я слушаю ее, а сердце у меня бешено колотится, в руке зажат ключ.
– Бабушка, вам не понравился лимонад?
Я отпила еще глоток и, откидываясь обратно на подушку, сказала:
– Понравился! Молодец, вкусно, спасибо тебе!
– Я много сахара положила. О чем вы думаете, Бабушка?
Тогда я услышала, что еврей сердито и нервно покашливает, а Селяхаттин жалобным голосом спрашивает: вы не останетесь на обед? – а еврей опять спрашивает о серьгах. Затем Селяхаттин взбежал по лестнице, пришел ко мне в комнату и сказал: Фатьма, давай спускайся вниз, мы садимся есть, будет очень стыдно, что тебя нет! Но он знал, что я не спущусь. Через некоторое время они пошли вниз вместе с моим Доаном, я услышала, как еврей говорит: какой прелестный мальчик! – и спрашивает его о маме, а Селяхаттин отвечает, что я больна, и, пока они втроем обедают, им прислуживает эта шлюха; мне стало противно. Теперь я не слушала или не замечала, что слушаю, потому что он начал рассказывать еврею о своей энциклопедии.