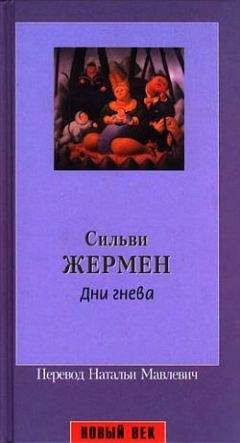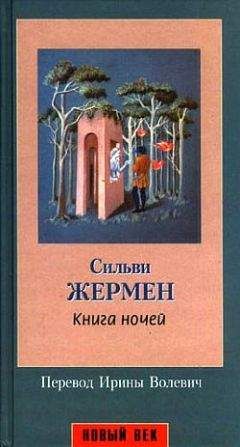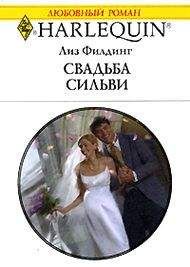Без всяких предисловий пан Славик вытащил тоненькую тетрадку.
— Это я вам, — глухим басом произнес он, теребя свою длинную траурную хоругвь, красный цвет которой во многих местах сошел на оранжеватый. — Прочтете, когда будет время.
Прокоп взял рукопись и поинтересовался:
— О чем это, пан Славик? Да вы присаживайтесь, присаживайтесь…
— Нет, нет, я не хочу отнимать у вас время. Я на минутку. И потом, когда прочтете, вы сами увидите, о чем это. До свидания, и благодарю вас.
И пан Славик ретировался. Тщетно Прокоп пытался его удержать. После ухода пана Славика Прокоп сел за стол и перелистал тетрадку. Текст в ней, хоть она и была тоненькая, занимал меньше половины: десяток страниц, исписанных крупным старательным почерком. Это был рассказ, озаглавленный «Без названия»; видимо, автору ничего подходящего в голову не пришло. На обороте тетрадной обложки автор написал посвящение: «Моему Псу». «Ну и ну, — подумал Прокоп, глядя на буквы посвящения, выведенные его немногословным соседом с ученической аккуратностью. — Толстый пан Славик поддался на соблазн беса сочинительства, и все из любви к своему двортерьеру!» И он немедленно погрузился в чтение рукописи.
*
Моему Псу
БЕЗ НАЗВАНИЯ
Родился я ночью, в разгар зимы, при тридцатиградусном морозе, в маленькой деревне в Крконошах. Произошло это в феврале месяце 1925 года. Моя мама рассказывала, что все небо тогда было в звездах, ласковых и белых, как капли молока, и можно было подумать, будто они застыли от мороза. А вдалеке слышался волчий вой, добавляла она. Моя мама никогда не говорила неправды. Кроме мамы и моего пса, я в своей жизни не встречал никого, кто никогда бы не обманывал.
Про годы детства в деревне мне нечего рассказывать. Тогда происходили лишь самые обыкновенные события, связанные с временами года, и все, что пекла мама, тоже соответствовало этому годовому циклу. Запеканки из лапши и ватрушки с творогом и изюмом зимой; витые булочки с миндальными орехами на Рождество, а также разные сладкие печенья и пряники; тарталетки с вареньем и слойки с шоколадом на Пасху; вареники с черникой, малиной и ежевикой летом; а осенью штрудели с яблоками и орехами. Моя мама никогда никого не обманывала, даже времена года. Точно так же, как и мой пес.
Вот и все о моем раннем детстве: одни только вкусовые воспоминания, ну или почти. Да еще воспоминания о запахах — земли, животных.
Мама и смерть тоже не стала обманывать. Она никогда ничем не болела. Но однажды слегла. У нее были страшные головные боли. А через десять дней ее похоронили. Потом нам сказали, что у нее в мозгу была опухоль. Как если бы гриб завелся у нее в голове, огромный, ядовитый, прожорливый гриб. Когда она слегла, то уже точно знала, что больше не встанет. Люди, которые всю жизнь на ногах, в работе, никогда не ошибаются насчет определенных признаков; для них жизнь — это движение, а остановиться значит умереть. Моя мама все прекрасно понимала, точно так же, как и мой пес. И она не жаловалась.
Хоронили маму ясным октябрьским утром. Стоял сухой морозец, высоко на безоблачном небе сверкало солнце, как медный циферблат часов, который мама начищала, пока он не засверкает. По обе стороны дороги стояли рыже-красные буки; кладбищенские аллеи были усыпаны нежной пылью светло-желтой палой листвы, позолоченной солнечным светом. Я до сих пор не могу забыть это бледное золото, дрожавшее в моих слезах. Мне было тогда одиннадцать лет.
Вечером после похорон мой отец напился. И с тех пор не переставал пить. Он продал дом и уехал из нашей деревни. Увез меня с собой в Прагу. Только-только мы обосновались там в квартале Жижков, как в город вошли немцы. Мне совсем недавно исполнилось четырнадцать лет. Отец, который раньше приходил от выпитого в печальное настроение, теперь, напиваясь, зверел. Он все больше и больше превращался в запойного пьяницу. Иногда приводил домой женщин. Но поскольку он бил их и злобно ругал, они больше не приходили. А он находил новых.
Это было время насильственных смертей. Некоторые погибали от пуль, другие под бомбежкой, кто-то на поле боя, а кто-то в концлагере от голода и избиений. Отец тоже погиб во время оккупации, но не как герой или мученик, а спьяну. В жилах у него в тот раз вина было не меньше, чем крови, и он попал под трамвай. Можно сказать, что под колесами трамвая лопнул старый бурдюк с дешевым прокисшим вином. Я остался сиротой. Пришлось бросить школу и поступить на фабрику.
Немцев из страны прогнали, но вскоре их место заняли новые оккупанты, так что перемены оказались не слишком большие. Женился я в двадцать семь. А через девять лет жена ушла от меня к аккордеонисту из Млада Болеслава, у которого был стеклянный глаз. «Ну и что из того, что у него всего один глаз, — сказала она мне на прощанье, — зато он играет как бог!» Но поскольку моя жена никогда раньше не проявляла никакого интереса к музыке, я понял, что божественность ее кривого избранника кроется не в пальцах, а между ног. Сам-то я не больно увлекался этими вещами. Короче, я остался один и мог в свое удовольствие пялиться в окружавшую меня пустоту двумя глазами, которые оказались не такими привлекательными, как один стеклянный. Но я очень быстро приспособился к одиночеству. И больше не женился, а уж тем более не научился играть ни на каком музыкальном инструменте.
Но поскольку вечера все-таки иногда казались мне долгими, я шатался по пивным да кафе. Играл в карты, но без особой увлеченности. Вообще, где бы я ни оказывался, чем бы ни занимался, мне все очень быстро надоедало. Я часто менял работу: водил грузовик, разносил почту, перевозил мебель, работал механиком, носильщиком, контролером электросбыта, а какое-то время даже кладбищенским сторожем. Это позволило мне неплохо изучить людей. И надо сказать, что за видимостью внешних отличий, они все, в сущности, одинаковые — в одно и то же время храбрецы и трусы, скареды, способные при случае на широкий жест, сумасброды или мудрецы в зависимости от обстоятельств, то бесконечно верные, то предатели. Но возвышенными они не бывают никогда, по крайней мере исключительно редко. Надо сказать, большинство людей таскают свою комканую-перекомканую, засморканную, истрепанную душу в карманах, да только дело в том, что у большинства из этого большинства карманы дырявые, и по пути грязный и мятый платочек души у них вываливается, но они этого даже не замечают.
И вот однажды в мою жизнь вошел пес. И с его приходом ушла тоска. Было это в августе шестьдесят восьмого, сразу же после вторжения. Он стоял на углу улицы, по которой шли танки. Он был совсем еще молодой; невысокий дворняга без ошейника, немножко коротколапый, с мощным туловом и пушистым хвостом; острые стоячие уши, длинная морда и карие глаза с оранжевыми искорками. Масть — медно-рыжая, и при этом белая грудка.
Он поднял голову и посмотрел на меня, словно о чем-то раздумывая, а потом, виляя хвостом, пошел за мной. Если я останавливался, он останавливался тоже, но все время держал дистанцию метра два; сидел, чуть опустив голову, и словно бы искоса поглядывал на меня. У него был добрый, умный и внимательный взгляд. Точь-в-точь как у моей мамы. Он проводил меня до дома. Когда я вошел туда, он сделал вид, будто собирается продолжить свой путь. Я поднялся к себе и забыл про него. Но когда утром открыл дверь своей квартиры, обнаружил, что пес лежит у порога. Он поднял голову и улыбнулся мне.
Да, да, такое бывает. Собаки иногда улыбаются. И я впустил его к себе в дом. Восемнадцать лет он прожил в нем. Я знаю, почему он так сопротивлялся смерти: он хотел как можно дольше отсрочить миг нашей разлуки. Он знал, что для меня это будет горе. И для меня это действительно было горе, да такое, о каком он и подозревать не мог.
_____
В тот первый день, когда он мне улыбнулся и вошел в мой дом, он обследовал обе комнаты и кухню и остановил свой выбор на узкой кушетке, что стояла у окна в гостиной. Он вспрыгнул на нее и взглянул на меня, словно бы спрашивая, не против ли я. Я сделал знак, что ничего против не имею. С той поры эта кушетка стала его лежбищем. После этого я три раза переезжал; Пес и его кушетка первыми оказывались в моем новом жилье.
Я не стал искать для него какой-нибудь особенной клички, я называл его именем его вида. Я звал его Пес. Пусть он и был беспородный, но все равно принадлежал к собачьему племени. И мне бы очень хотелось, чтобы он меня называл Человек — просто пан Человек. Тем более что при моем бычьем сложении, квадратной голове и басистом, рыкающем голосе называться Соловьем смешно. Все вечно подтрунивали над моей фамилией, которая мне идет, как корове седло.
Мы с Псом сразу же поладили. Он был умный и склонный к одиночеству; как и я, он отнюдь не стремился к обществу своих сородичей, а к сучкам относился с таким же недоверием, с каким я к женщинам.