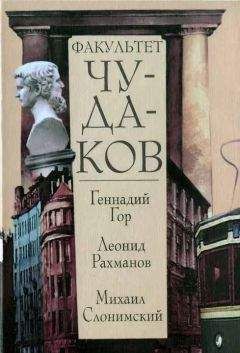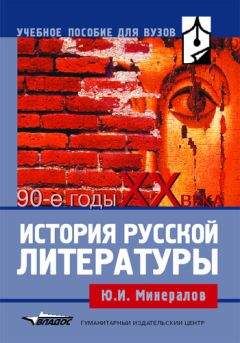Разумеется, первого он решил посетить Бородкина Франца. Хрипящий и покачивающийся, похожий на простуженного зверя, автобус повез его по узким улицам слободы. Он двигался медленно, этот автобус, наполненный рыхлыми, как овощи, обывателями, которым некуда было торопиться, а широкая спина шофера не могла же знать, что художник Колобков спешил так, как он никогда не спешил. Одна и та же тревожная мысль заставляла его то вскакивать с места, то садиться.
«А вдруг он скрылся, — думал художник Колобков, — он мог узнать меня, ведь ему хорошо знакома моя фамилия. И, кроме того, моя пристальность не могла не навести его на подозрение».
И как нарочно движение автобуса все замедлялось и замедлялось. Казалось, что он совсем не двигается, а на зло Колобкову стоит на одном месте. Приземистые и пузатые обывательские домишки с низкими, зелеными от дряхлости, стеклами всеми своими геранями и фикусами издевались над ним. Неподвижные, они смотрели морщинистыми и носатыми старушечьими лицами, посмеиваясь над ним своим единственным желтым зубом, выпученными лицами фотографий, всеми своими горбатыми деревьями и покосившимися, похожими на старушечьи рты, калитками. Они казались ему домишками Т-ска той ужасной, запомнившейся навсегда, ночи, лица старушек лицами т-ских старушек, лица калиток и деревьев лицами т-ских калиток и деревьев. И даже заборы, мимо которых он проезжал, казались ему давно знакомыми. Они выглядели так, как те заборы Т-ска, через которые он не перелезал, а перелетал, не ощущая ничего, кроме бьющегося сердца. И даже настроение его было совершенно такое же, точно время и разница не отделяли вчера от сегодня, разница, которая заключалась в том, что тогда он убегал, а теперь преследовал. И не только в том заключалась разница. Она врезалась в гущи трусливых домишек ломаной линией новостроек. Фабриками, похожими на дворцы, с широкими окнами и машущими вентиляторами, домами чистыми и блестящими, как фарфор. И не только в этом заключалась разница. Мелькая спицами, она катилась на тысячах своих шин, она висела в воздухе в виде антенн, летала в виде тысячи самолетов. Она сидела в виде художника Колобкова, который был художником, а не батраком, потому что между вчера и сегодня была разница. Не стесненный узкими уличками, автобус пошел быстрее. Колобков успокоился. Он не сомневался, он уже видел, как он приносит абстрактному гражданину по фамилии Бородкин законченную картину, где изображено его, Бородкина, лицо. Он следит за тем, как меняется настоящее лицо Бородкина, как оно из беспристрастного становится насмерть испуганным. И вот два лица смотрят друг на друга, похожие друг на друга, как лицо и отражение лица в зеркале. И вот это уже не два лица, а одно. И одно лицо — это лицо провокатора.
Здесь автобус остановился, и Колобков очутился на незнакомой ему улице. Не без труда он отыскал дом, в котором проживал Франц Бородкин. Взбираясь по лестнице, которая была вся умащена водой, помоями и проникнута насквозь тем спиртуозным запахом, который ест глаза, художник вспомнил одну из лестниц, описанную Гоголем. Дверь была открыта, потому что хозяйка, готовя какую-то рыбу, напустила столько дыму в кухню, что нельзя было видеть и самое хозяйку.
— Дома ли Франц Бородкин? — осведомился художник Колобков с таким видом, как будто он был старым знакомым и частым посетителем Франца Бородкина.
— Франц дома, — сказала хозяйка и показала пальцем на одну из дверей.
Войдя в указанную комнату, Колобков заметил фигуру человека, сидевшего на ломберном столике, подвернув под себя ноги, как портной. Столик не был устойчив и покачивался, покачивая фигуру человека, сидевшего на нем. Фигура что-то шила так неловко и неумело, точно она впервые держала в руках иголку. Колобков пристально посмотрел на шившую фигуру. Это не была фигура абстрактного гражданина.
— Вы гражданин Франц Бородкин? — спросил художник Колобков.
— Да, я буду Франц Бородкин, — сказала фигура, — а вы что скажете, гражданин фининспектор?
— Во-первых, я не фининспектор, — сказал Колобков.
— Прошу вас, садитесь, — сказала фигура и, поспешно соскочив со столика, подала ему стул. — Простите, пожалуйста. Вас прислал Федор Григорьевич. А я принял вас за фининспектора. И сел изображать из себя портного. Приходится. А ведь раньше у меня был магазин готового платья. Утром надену костюм, вечером раздену. Да что я вас задерживаю. Прикажете примерить?
«Фу, дьявол, я могу опоздать», — подумал Колобков.
Но фигура, так неумело изображавшая из себя портного, уже успела загородить ему выход.
— Вот коричневый костюм, — продолжала фигура, — а вот синий шевиот. Недорого, или вам, может, черный? Ну, как Федор Григорьевич изволит поживать? В добром ли здравии? И супруга их?
«Да я не знаю никакого Федора Григорьевича, никакой супруги», — хотел было сказать художник Колобков, но ничего не сказал, потому что заметил, что шея, плечи и живот собеседника показались ему достойными внимания.
— Не двигайтесь, — приказал он, — и не шевелитесь.
Франц Бородкин застыл, испуганный и торжественный, в нелепой позе.
Колобков достал блокнот и карандаш и критически осмотрел позу Франца Бородкина. Поза ему не понравилась.
— Двигайтесь, — разрешил он, — шевелитесь. Можете даже разговаривать.
И стал быстро набрасывать на бумагу шею, плечи и живот Франца Бородкина.
— Кто же вы такой есть? — наконец решился спросить Бородкин.
— Художник, — сказал художник.
— Художник, — разочарованно повторил Франц Бородкин. — В таком случае я вас не задерживаю. Я не нуждаюсь ни в вывеске, ни в рекламе.
Колобков извинился и вышел из квартиры Франца Бородкина.
«К Виктору, — размышлял он, — или к Ивану Ивановичу?»
«К Ивану Ивановичу», — решил он и отправился к Ивану Ивановичу.
Иван Иванович, оказывается, жил в новом светлом доме во втором этаже. Художник Колобков поднялся по широкой железобетонной лестнице, похожей на лестницу Франца Бородкина, как болтливый Франц Бородкин на того молчаливого Бородкина, которого с таким нетерпением искал художник Колобков, мысленно называя его то абстрактным гражданином, то… Но лучше пока мы не скажем, как он еще называл нужного ему Бородкина.
Раскрыв широкую дверь, он очутился в просторной кухне, где стояла электрическая плита и сверкали, как самоварное серебро, котлы. Кухня была такая чистая, такая светлая, такая тихая, точно это была не кухня, а кабинет врача, вдруг превратившийся в кухню жактовской столовой. И потому на белых столиках, покрытых стеклом, лежали не хирургические инструменты, а ножи, вилки, тарелки и ложки, а в маленьких белых шкафиках хранилась не вата, а аккуратно нарезанный хлеб, и потому посредине комнаты стояло не кресло, а плита. Но, напоминая кабинет врача чисто внешними чертами, кухня отличалась от кабинета всем своим существом, как веселая работа повара от невеселой работы врача. Она вся сверкала, эта кухня, как стекло под солнцем, в то время как кабинет, сколько бы в нем ни было солнца и улыбающихся лиц, всегда будет кабинет.
Сначала, как показалось Колобкову, в кухне не было никого. Потом он заметил одетую в белое и похожую издали на врача фигуру в колпаке. Фигура делала какие-то несуразные жесты. Она брала со столика рыбу и запихивала ее куда-то под халат, точно под халатом фигуры было рыбохранилище. Она брала за хвост сначала одну рыбу и пропускала ее через халат, потом вторую, потом третью, потом четвертую и т. д. Фигура стояла спиной к Колобкову и была так занята своим делом, что не обращала на него никакого внимания. Несомненно, перед Колобковым был вор, необыкновенно спокойный вор, уверенный и неторопливый как хозяин.
«Ага, попался», — подумал художник Колобков и уже протянул руку, чтобы схватить вора за шиворот, как вдруг опустил руку. Вор оглянулся, и художник Колобков увидел все сразу его лицо, показавшееся ему примечательным.
— Где я могу тут видеть Ивана Ивановича Бородкина? — спросил он.
— Я и есть Иван Иванович, — сказал вор с таким видом, как будто ничего не произошло.
Колобков оглядел Ивана Ивановича с ног до головы. Он не был похож на искомого Бородкина, наоборот, он был полной его противоположностью, и в то же время он существенно его дополнял всеми своими движениями, всей фигурой.
— А вы по какому делу? — спросил Иван Иванович.
— Я художник, — сказал художник Колобков, — и хочу зарисовать вашу образцовую столовую.
— Пожалуйста, — сказал Иван Иванович, — который по всем признакам очевидно был руководящим поваром.
Художник Колобков, сделав вид, что зарисовывает кухню, быстро набросал фигуру повара, не упустив ни его характерных, широко расставленных ног, ни его усмешки, то исчезающей, то вновь появляющейся, ни всей позы, позы человека, не знающего, погладить ему или ударить. Он хотел было уже уйти, когда Иван Иванович его остановил.