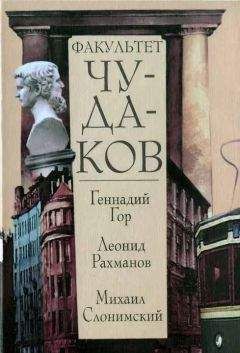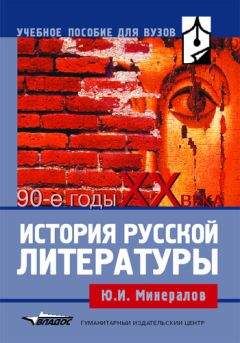Художник Колобков, сделав вид, что зарисовывает кухню, быстро набросал фигуру повара, не упустив ни его характерных, широко расставленных ног, ни его усмешки, то исчезающей, то вновь появляющейся, ни всей позы, позы человека, не знающего, погладить ему или ударить. Он хотел было уже уйти, когда Иван Иванович его остановил.
— Я хотел вас просить, — сказал он, — чтобы то, что вы видели, осталось между нами.
И, порывшись где-то внутри халата, он вытащил одну из самых больших рыб и протянул ее художнику.
— Вы с ума сошли, — сказал художник и посмотрел на физиономию повара, который своим удивленным, широко раскрытым ртом и вытаращенными застывшими глазами напоминал физиономию рыбы.
Затем он выхватил из рук повара рыбу и пихнул ему ее в рот. Выходя, он оглянулся: повар по-прежнему стоял на том же месте, из его широко раскрытого, испуганного и удивленного рта по-прежнему торчал рыбий хвост.
Теперь оставался еще только один Бородкин. Бородкин Виктор. И художник Колобков немедленно отправился к нему. Было уже одиннадцать или двенадцать часов вечера, когда он подходил к дому, где проживал Виктор. Тревожная, одна опровергавшая другую мысли докучали ему дорогой. Он то останавливался и говорил себе:
«Поздно, — говорил он себе, — нелепо врываться к почти незнакомому человеку, который не может быть провокатором уже по одному тому, что провокатор не мог быть настолько глупым, чтобы остаться здесь, а не бежать за границу».
То снова шел. То снова останавливался и говорил себе:
«А что, если он провокатор, — говорил он себе, — и мой ночной приход покажется ему подозрительным настолько, что он скроется раньше, чем я принесу улики?»
И, вспомня свою еще не написанную картину, снова шел.
Он поднялся в четвертый этаж по лестнице, которая была не широкой и не узкой, не чистой и не грязной, не старой и не новой, и остановился у дверей, не решаясь, позвонить ли ему или пока еще не поздно вернуться назад.
Все же он позвонил и тем отрезал себе путь к отступлению, потому что не успел он отнять палец от кнопки электрического звонка, как дверь распахнулась, как будто человек, который ее открыл, ожидал уже художника Колобкова. Человек, который открыл дверь, оказался Виктором Бородкиным, тем самым абстрактным гражданином, которого искал Колобков. Не сказав ни слова, он повел Колобкова по длинному коридору с таким видом, точно давно ожидал художника. Он привел его в комнату не широкую, не узкую, не темную, не светлую, не бедно, не богато обставленную. Посредине стола стояли самовар и две чашки, а по бокам — два стула, точно все было заранее приготовлено к приходу художника Колобкова. Кроме стола, самовара, двух чашек, двух стульев, самого хозяина и художника, в комнате не было ни людей, ни предметов. Не сказав ни слова, хозяин сел на один стул. Колобков, не ожидая приглашения, сел на другой. Лицо Бородкина было то же, что в трамвае. Оно смотрело. И на том же лице тот же жил нос, те же лежали глаза, те же слушали губы.
«Вот лицо, — немного не подумал художник, — которое я бы не стал писать ни за какие блага жизни».
И все же он не подумал это. Потому что он пришел специально для того, чтобы увидеть еще раз, узнать и понять это лицо с тем, чтобы сначала его изобразить, а, изобразив, разоблачить.
Но лицо по-прежнему оставалось бесстрастным, как маска, не показывая своего искреннего выражения. И вдруг оно заговорило.
— Пейте чай, — заговорило оно, — я ждал не вас, а жену, которая должна вернуться из театра.
Колобкову стало неловко. Его поздний приход не мог не показаться нелепым. Он уже подыскивал фразу в свое оправданье. И он ее подыскал. Он хотел объяснить свой поздний приход желанием уточнить детали, договориться окончательно о заказанной ему картине. И вес же он нашел в себе смелость сказать о настоящей причине своего прихода.
— Я пришел просить у вас разрешения, — начал он, — писать с вас портрет одного… одного… гражданина, который имел отношение к одному восстанию в 19-м году и которого вы мне напоминаете.
Называть провокатора не было нужды. Если бы перед ним был тот самый провокатор, его назвало бы его лицо. Но лицо осталось прежним. Оно молчало. Оно выражало то, что оно должно было выражать. Оно почти ничего не выражало, как почти ничего не выражает стол, покрытый зеленым сукном, похожий на лицо бездушного бюрократа, или лицо бездушного бюрократа, похожее на стол, покрытый зеленым сукном. И владелец лица сказал так же, как если бы он не пил чай, а перелистывал бумаги.
— Я не натурщик и не манекен, — сказал он, — и у меня так много знакомых художников, что если я позволил бы каждому из них писать свое лицо, то постепенно оно утратило бы всякое выражение и, перестав быть лицом, превратилось бы в маску.
Было не понять, посмеивался ли он над самим собой или над Колобковым, или над всеми вместе.
Он остался сидеть, где сидел, и пить чай. А художник Колобков отправился домой. Ему не нужно было зарисовывать лицо абстрактного гражданина, он помнил его все, начиная с волос и кончая подбородком.
Он возвращался. И чем ближе он подходил к своей квартире, тем отчетливее ему представлялись фигура и физиономия провокатора. И вот перед его умственным взором личность провокатора была целиком. Это было создание его синтетического воображения, создание, в которое вошло нечто от Бородкина Виктора, нечто от Бородкина Франца, кое-что от Бородкина Ивана Ивановича и еще от многих других. Оно походило на того конкретного провокатора, которого он искал в продолжение тринадцати лет, и не только на него, потому что оно должно было изображать не только провокатора в частности, но и провокатора вообще. Оставалось только взять кисть и выжать краску. И художник Колобков выжал на палитру краску и взял кисть, чтобы осуществить свой замысел.
В беспредметной живописи своего сна Андре Шар узнал свою собственную живопись.
Сон водил его по комнате. Он показывал ему свой язык и его собственные картины.
Да был ли это сон?
Язвительный и реальный, как повседневные действия, совершаемые человеком при солнечном свете, да, это был сон.
Да были ли это его собственные картины?
Чудовищные, алогичные, подобные пощечине сумасшедшего, предутренние, способные довести до изнеможения, гнойные и торжественные, птицеобразные, изогнутые, похожие на протоплазму, слабогрудые, случайные, освистанные им сегодня и оплеванные им, да, это были его собственные картины!
Этот сон походил на антиквара. Он был услужлив и обстоятелен, точно показывал картины американскому, очень богатому покупателю. Но сон был, кроме того, насмешлив и нахален: не покупателю — художнику он показывал его собственные картины.
Сон придерживался хронологии, сначала он показал Андре Шару ранние работы Андре Шара. Это были узенькие дощечки, где изображения вещей стремились стать изображениями людей, а изображения людей — изображениями вещей. Предметы, вырванные метафизической рукой художника из действительности, изолированные или перенесенные в другую среду, выглядели таинственно и странно, как выглядел бы обыкновенный желтый примус, поставленный рядом с изображениями богов древних и величественных.
Очертания мира реального и мира несуществующего сливались. Изображенный человек был равен окружающему. Преобладали светло-желтые тона и темно-розовые.
На секунду выглянула первая работа Андре Шара: Адам и Ева.
Адам был изображен низеньким розовым толстяком на зеленом фоне. Одна нога его стояла на земле, конец второй — уходил в неизвестное. Адам смотрел вверх. Над ним парила лимонно-желтая Ева с громадным лицом на длинной узкой шее, которая была длиннее самой Евы. В правой руке Евы росло фантастическое дерево.
Затем узенькие дощечки сменились холстами. Это была следующая серия. Здесь машина изгоняла человека с земли, как Бог Адама и Еву из рая. Но изображенная машина была еще мстительнее, чем Бог, и еще ужаснее. Потому что Бог был только Бог, а машина была машина. Она гналась за человеком, вот-вот она чуть не настигла его, и вот она его раздавила.
Третий период, последний по времени, уже был беспредметный в полном смысле этого слова. Он включил в себя месть Андре Шара за человека, за человеческий страх, за порабощенное воображение, за тоску, за одинаковые вещи и одинаковые желания, за лица детей в подвалах, за чудовищные извращения, за безумие, за измену, за неясные перспективы, за то, что человек измеряет свою жизнь часами, — а вещь столетиями, за плешивых женщин и мужчин, напоминающих овощи, за депутатов парламента, за педерастов, за дерево, одиноко растущее в асфальте, за физиономии полицейских и великолепных дам, за помойные ямы, за отсутствие искренности, за груди женщины, вырванные ради красоты, за уличное движение, за крысу, которая просверлила дыру в его полу, за бездарные книги, за бессмысленные и дряблые мускулы, за вонь бензина, за отсутствие весны, за сплин, за современную буржуазную философию, за людей с одинаковой челюстью, за посредственность кинематографа, за отсутствие подбородков, за накрахмаленность разговоров и мысль, похожую на всякое отсутствие мысли, за всю эту гниль, завернутую в непромокаемый плащ, и за всех этих изогнутых как спираль уродов, он мстил машине, этой реализованной мысли человека, по его мнению, ставшей его диктатором. Для этого он размашинил машину. Он пошел еще дальше, он развеществил вещи. Распредметил предметы. По крайней мере так ему казалось. Он возвратил все существующее к тому космическому и первоначальному хаосу, который существовал еще до появления всякой формы. Форма, предметность сама по себе ему представлялась враждебной, форма сковывала сущность.