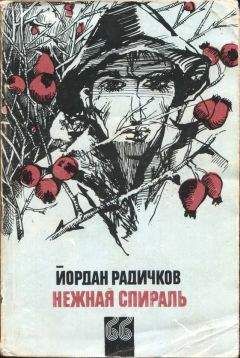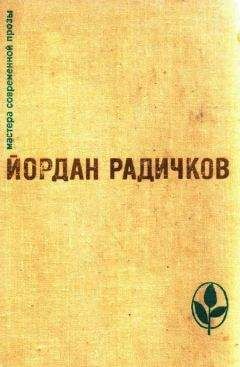Мальчик просунул свои свиные царвули под ремешки и, отталкиваясь палкой, покатил между буками в ту сторону, где, по слухам, должны были соревноваться чемпионы. Очень скоро мы потеряли его из виду.
Мы с Петефи потащили свой каик дальше к лесосеке. Идти было трудно, деревянные башмаки ужасно скользили. Производство таких башмаков было налажено во время войны, подметки их делались из букового дерева, а верх будто бы из кожи бизона, — насчет бизона, я думаю, это была чья-то шутка. Буковые подметки не гнулись, при сухой погоде башмаки грохотали по старым мраморным плитам городских тротуаров, а на снегу разъезжались, и походка у человека в таких башмаках становилась похожа на утиную. Другой обуви в те карточные времена почти не было, лишь изредка выдавали резиновые царвули. Кроме буковых башмаков, по селам распределяли еще маслины, отрезы бязи или другой материи.
Что делать, в то трудное карточное время мы держались не только тем, что досталось по распределению, а перебивались, как могли, и надежда, что как-нибудь да справимся мы с этой жизнью, нас не оставляла. При этом бедность ничуть не мешала нам жить вдохновенно. Именно вдохновение и мороз толкали нас с Петефи, когда мы тащили к лесосеке тяжелый каик, и не было такой силы, которая заставила бы нас сойти с пути — то есть с протоптанного мулами и лесорубами разъезженного санями зимника. Лесосека была государственная, государство срубило то, что ему было нужно, но на склоне оставались кучи прекрасного хвороста. Этим хворостом берковицкая беднота и обогревалась, спуская его кто на собственном горбу, кто на муле, кто на санях. Издали казалось, что на лесосеке полно сушняка, но добравшись до нее, мы увидели, что она здорово обобрана, и нам пришлось обшарить ее всю, пока мы набрали достаточно хворосту. Обрубив ветки, мы нагрузили каик и крепко привязали свою добычу, потому что знали: дорога впереди крутая, вся в рытвинах, с неожиданными поворотами, которые подстерегают за стволами буков, словно кто-то нарочно расставил западни, чтобы перевернуть нагруженные сани и разметать по снежным скатам весь наш труд. У каика было две оглобли, так что мы могли вдвоем и тащить его, и, наоборот, притормаживать. Вообще-то нам предстояло больше притормаживать, потому что почти вся дорога до городка шла под уклон. В трех или четырех местах спуски были особенно крутые, но мы надеялись, что нам удастся, упираясь в снег пятками наших деревянных башмаков, придерживать тяжело нагруженные сани.
Осмотрев еще раз свою работу, мы решили, что все в порядке. Поклажа была аккуратно уложена, крепко затянута, сверху поблескивал привязанный к хвосту хозяйский топор. Под ногами у нас лежал укутанный снегом городок и укутанная снегом гимназия, которая вот уже столько времени пыталась нас обтесать. По нам, думаю, видно, что работала она грубым теслом. Снег укутал и лесную школу для детей с замедленным развитием — несколько домиков на окраине, — и расположенное недалеко от них одинокое здание студенческой турбазы. Турбаза дымила всеми своими трубами — в ней разместили участников лыжных соревнований. Мы с Петефи тут же вспомнили нашего маленького лыжника: сумел ли он добраться до чемпионов и поглазеть на них или ремешки порвались у него еще раз, пока он пробирался буковым лесом? Когда мы выходили из городка, группа ребятишек из лесной школы попросила покатать их на каике — дорога там идет под гору, и мы их покатали, однако с условием, что на обратном пути они помогут нам толкать каик в гору. С лесосеки было видно, что ребятишки стоят на дороге и ждут — не забыли, значит, про уговор.
Пока мы волокли нагруженный каик с лесосеки на зимник, мы вконец запарились. Под снегом прятались пни, полозья на каждом шагу задевали за них, приходилось оттаскивать каик в сторону, объезжать, даже возвращаться назад, но потихоньку-полегоньку мы все-таки выбрались на проторенную в снегу дорогу. Зимний день короток; солнце исчезло за буками, снег стал синеватым. Далеко за деревьями мы слышали голоса — там была трасса соревнований. Наша дорога шла по склону дугой и пересекала трассу почти в самом ее конце. До этого места было еще далеко, и мы старались поосторожнее управляться с каиком, чтобы не упустить его на склоне.
Вначале все шло хорошо, нагруженный каик послушно следовал за нами. Тащить его не приходилось, он сам легко скользил на своих длинных полозьях по мягкому склону. Нам пришло в голову, что можно меняться: один будет придерживать оглобли и направлять сани, а другой в это время прокатится, только не забираясь на дрова, а стоя на одном полозе, чтобы в случае чего тут же соскочить и броситься на подмогу товарищу.
Так мы и сделали.
Некоторое время мы сменяли друг друга: то я направлял каик, а Петефи ехал на полозе, то он перехватывал оглобли, а я становился на полоз. Постепенно и едва заметно наклон делался все круче, я чувствовал, что уже с трудом торможу своими деревянными башмаками, удерживая груз за спиной, в ушах свистел ветер и доносились отрывки стихов — Петефи, стоя на полозе, свивал бичи и плети для глупцов всего земного шара. Каик, ускоряя ход, брал поворот за поворотом и вдруг перестал мне подчиняться, оглобли вырвались из рук, я успел только увидеть, как мимо меня промчался стоящий на полозе Петефи, и в следующее мгновение декламатор и сани со всего маху врезались в бук. Топор взлетел с таким страшным свистом, словно жаждал кого-то зарубить, и вонзился в снег. Петефи отряхнулся, сказал: „Кто там на суку? Ку-ку!“ — и мы принялись поднимать опрокинувшийся каик, заново укладывать хворост и привязывать поверх него топор. Топор мы привязывали с особым старанием, потому что при следующей такой аварии он мог кого-нибудь поранить.
Двинулись дальше.
Теперь уже никто больше не катился на полозе, мы оба шли впереди, крепко ухватившись за оглобли. Горный склон делался все круче, будто хотел сбросить нас прямо в городок. Повороты немного смягчали крутизну, но груз за нашей спиной давил все сильнее, и мы, чтоб его удержать, зарывались башмаками в снег. Таким образом мы гасили скорость, но остановиться уже не смогли бы.
И вот как раз в это время, когда нам приходилось так туго, мы увидели среди буков нашего маленького лыжника.
Он летел как стрела на своих самодельных снегоходах, коричневый пиджачок развевался за его спиной. Мальчик мчался, низко пригнувшись, держа меж ног деревянную палку. С помощью этой палки он, когда надо, сдерживал скорость, она же служила ему рулем, а на относительно ровных местах ускоряла его ход: он втыкал ее в снег и отталкивался. „Пацан, эй, пацан!“ — закричал Петефи. Мальчик обернулся лишь на миг, махнул нам рукой и стремительно пронесся дальше вниз, лавируя между буками. Лыж его не было видно — только развевающийся пиджачок и палка, словно он летел, сидя на ней верхом. Все остальное было окутано снежной пылью, и наш маленький лыжник напоминал испуганного зайчонка, который кубарем катится с горы.
Как удавалось ему маневрировать между буками, как он исхитрялся не врезаться в стволы, уж и не знаю!
Мгновением позже с той стороны, откуда появился мальчик, послышался гул голосов. По следам мальчика неслась, растянувшись цепочкой, свора чемпионов. Они кричали маленькому лыжнику, чтоб он остановился, подождал их, они грозили ему, давали друг другу советы, где и как перерезать мальчишке дорогу. Мы не знали, почему чемпионы гонятся за мальчиком. Они мчались, элегантно изгибаясь между буками, словно выполняя групповые упражнения по слалому. Все у них было яркое, красивое, они размахивали легкими палками, а некоторые, низко пригнувшись, сжимали палки под мышками. Длиннющие их лыжи с загнутыми носами свистели по снегу, как змеи. За чемпионами неслась туча снега, а в туче видны были другие лыжники, тоже чемпионы, и они тоже что-то кричали — не то мальчишке, не то друг другу. Снежная туча, вероятно, мешала им видеть дорогу, и я каждую секунду ждал, что кто-нибудь из них сорвется со склона и повиснет на ветвях ближайшего бука. Но ни один из чемпионов не налетел на дерево и ни один не повис на ветвях. Элегантная свора продолжала с криками мчаться вдогонку нашему маленькому лыжнику, и мы с радостью заметили, что разрыв между ним и чемпионами постепенно увеличивается.
Однако же заметили мы и то, что склон становится все круче и наши сани, увлекаемые инерцией и собственной тяжестью, уже не замедляют ход, когда мы взрываем снег своими буковыми башмаками, а грубо толкают нас вниз или отрасывают в сторону на поворотах, все более свирепо взвизгивая полозьями. Уже невозможно было ни бежать, ни остановиться. Переглянувшись с Петефи, мы еще крепче ухватились каждый за свою оглоблю и тут же прорезали снежную тучу, оставленную чемпионами. Преследуя мальчика, они пересекли наш зимник. Уже словно бы во сне видели мы, как они мельтешат в летящей снеговой туче и изо всех сил кричат что-то мальчишке. От скорости на глазах у меня выступили слезы. Каик уже сам несся по дороге, мы даже и не пытались направлять его ход, а летели вместе с ним по глубоким колеям. Спустя много лет мне довелось наблюдать состязания по бобслею, и только тогда я понял, что наш спуск был словно спуск на бобслее.