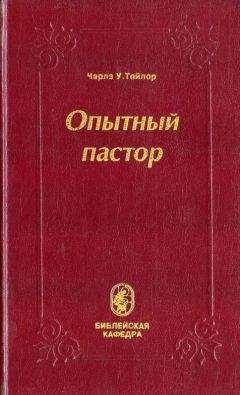Молодой студент нахмурил брови и с видом человека, которого ничто не занимает, снова углубился в книги.
– Ах, Боже мой! вскричала мистрисс Лесли: – кто бы это мог быть? Оливер! сию минуту прочь, от окна: тебя увидят. Джульета! сбегай…. нет, позвони в колокольчик…. нет, нет, беги на лестницу и скажи, что дома нет. Нет дома, да и только, повторяла мистрисс Лесли выразительно.
Кровь Монтфиджета заиграла в ней.
Спустя минуту, за дверьми гостиной послышался громкий ребяческий голос Франка.
Рандаль слегка вздрогнул.
– Это голос Франка Гэзельдена, сказал он. – Мама, я желал бы его видеть.
– Видеть его! повторила мистрисс Лесли, с крайним изумлением: – видеть его! когда наша комната в таком положении.
Рандаль мог бы заметить, что положение комнаты нисколько не хуже обыкновенного, но не сказал ни слова. Легкий румянец как быстро показался на его лице, так же быстро и исчез с него; вслед за тем он прислонился щекой к руке и крепко сжал губы.
Наружная дверь затворилась с угрюмым, негостеприимным скрипом, и в комнату, в стоптанных башмаках, вошла служанка, с визитной карточкой.
– Кому эта карточка? Дженни, подай ее мне! вскричала мистрисс Лесли.
Но Дженни отрицательно кивнула головой, положила карточку на конторку подле Рандаля и исчезла, не сказав ни слова.
– Рандаль! Рандаль! взгляни, взгляни, пожалуста! вскричал Оливер, снова бросившись к окну: – взгляни, какая миленькая серая лошадка.
Рандаль приподнял голову… мало того: он нарочно подошел к окну и устремил минутный взор на резвую шотландскую лошадку и на щегольски одетого прекрасного наездника. В эту минуту перемены пролетали по лицу Рандаля быстрее облаков по небу в бурную погоду. В эту минуту вы заметили бы в выражении лица его, как зависть сменялась досадою, и тогда бледные губы его дрожали, кривились, брови хмурились; вы заметили бы, как надежда и самоуважение разглаживали его брови и вызывали на лицо надменную улыбку, и потом все по-прежнему становилось холодно, спокойно, неподвижно в то время, как он возвращался к своим делам, сел за них с решимостью и вполголоса сказал:
– Знание есть сила!
Мистрисс Лесли подошла к Рандалю с сильным душевным волнением и некоторым замешательством; она нагнулась через плечо Рандаля и прочитала карточку. В подражание печатному шрифту, на ней написано было чернилами: «М. Франк Гэзельден», и потом сейчас же под этими словами, на скорую руку и не так отчетливо, написано было карандашом следующее:
«Любезный Лесли, очень жалею, что не застал тебя. Приезжай к нам, пожалуста.»
– Ты поедешь, Рандаль? спросила мистрисс Лесли, после минутного молчания.
– Не знаю, не думаю.
– Почему же ты не можешь ехать? у тебя есть хорошее модное платье. Ты можешь ехать куда тебе вздумается, не так, как эти дети.
И мистрисс Лесли с сожалением взглянула на грубую, изношенную курточку Оливера и оборванное платьице маленькой Джульеты.
– Все, что я имею теперь, я обязан этим мистеру Эджертону, и потому должен соображаться с его желаниями. Я слышал, что он не совсем в хороших отношениях с этими Гэзельденами, сказал Рандаль, и потом, взглянув на брата своего, который казался крайне огорченным, он присовокупил довольно ласково, но сквозь эту ласку проглядывала холодная надменность: – все, что я отныне буду иметь, Оливер, этим буду обязан себе одному; и тогда, если мне удастся возвыситься, я возвышу и мою фамилию.
– Милый, дорогой мой Рандаль! сказала мистрисс Лесли, нежно цалуя его в лоб: – какое у тебя доброе сердце!
– Нет, маменька: по-моему, с добрым сердцем труднее сделать большие успехи в свете, чем твердой волей и хорошей памятью, отвечал Рандаль отрывисто и с видом пренебрежения. – Однако, я больше не могу читать теперь. Пойдем прогуляться, Оливер.
Сказав это, он отвел эти себя руку матери и вышел из комнаты.
Рандаль уже был на лугу, когда Оливер присоединился к нему. Не замечая брата своего, он продолжал идти вперед быстро, большими шагами и в глубоком молчании. Наконец он остановился под тенью старого дуба, который уцелел от топора потому только, что по старости своей никуда больше не годился, как на дрова. Дерево стояло на пригорке, с которого взору представлялся ветхий дом, не менее того ветхая церковь и печальная, угрюмая деревня.
– Оливер, сказал Рандаль сквозь зубы, так что голос его похож был на шипенье: – Оливер, вот под самым этим деревом я в первый раз решился….
Рандаль замолчал.
– На что же ты решился, Рандаль?
– Читать с прилежанием. Знание есть сила.
– Но, мне кажется, ты и без того любил читать.
– Я! воскликнул Рандаль. – Так ты думаешь, что я люблю чтение?
Оливер испугался.
– Ты знаешь, продолжал Рандаль: – что мы, Лесли, не всегда находились в таком нищенски-бедном состоянии. Ты знаешь, что и теперь еще существует человек, который живет в Лондоне на Гросвенор-Сквере, и который богат, очень богат. Его богатство перешло к нему от фамилии Лесли: этот человек, Оливер, мой покровитель, и очень-очень добр ко мне.
С каждым из этих слов Рандаль становился угрюмее.
– Пойдем дальше, сказал он, после минутного молчания: – пойдем.
Прогулка снова началась; она совершалась быстрее прежнего; братья молчали.
Они пришли наконец к небольшому, мелкому потоку и, перепрыгивая по камням, набросанным в одном месте его, очутились на другом берегу, не замочив подошвы.
– Не можешь ли ты, Оливер, сломить мне вон этот сук? отрывисто сказал Рандаль, указывая на дерево.
Оливер механически повиновался, и Рандаль, ощипав листья и оборвав лишния ветки, оставил на конце развилину и этой развилиной начал разбрасывать большие камни.
– Зачем ты это делаешь, Рандаль? спросил изумленный Оливер.
– Теперь мы на другой стороне ручья, и по этой дороге мы больше не пойдем. Нам не нужно переходить брод по камням!.. Прочь их, прочь!
На другое утро после поездки Франка Гэзельдена в Руд-Голл, высокородный Одлей Эджертон, почетный член Парламента, сидел в своей библиотеке и, в ожидании прибытия почты, пил, перед уходом в должность, чай и быстрым взором пробегал газету.
Между мистером Эджертоном и его полу-братом усматривалось весьма малое сходство; можно сказать даже, что между ними не было никакого сходства, кроме того только, что оба они были высокого роста, мужественны и сильны. Атлетический стан сквайра начинал уже принимать то состояние тучности, которое у людей, ведущих спокойную и беспечную жизнь, при переходе в лета зрелого мужества, составляет, по видимому, натуральное развитие организма. Одлей, напротив того, имел расположение к худощавости, и фигура его, хотя и связанная мускулами твердыми как железо, имела в то же время на столько стройности, что вполне удовлетворяла столичным идеям об изящном сложении. В его одежде, в его наружности, – в его tout ensemble, – проглядывали все качества лондонского жителя. В отношении к одежде он обращал строгое внимание на моду, хотя это обыкновение и не было принято между деятельными членами Нижнего Парламента. Впрочем, и то надобно сказать, Одлей Эджертон всегда казался выше своего звания. В самых лучших обществах он постоянно сохранял место значительной особы, и, как кажется, успех его в жизни зависел собственно от его высокой репутации в качестве «джентльмена».
В то время, как он сидит, нагнувшись над журналом, вы замечаете какую-то особенную прелесть в повороте его правильной и прекрасной головы, покрытой темно-каштановыми волосами – темно-каштановыми, несмотря на красноватый отлив – плотно остриженной сзади и с маленькой лысиной спереди, которая нисколько не безобразит его, но придает еще более высоты открытому лбу. Профиль его прекрасный: с крупными правильными чертами, мужественный и несколько суровый. Выражение лица его – не так как у сквайра – не совсем открытое, но не имеет оно той холодной скрытности, которая заметна в серьёзном характере молодого Лесли; напротив того, вы усматриваете в нем скромность, сознание собственного своего достоинства и уменье управлять своими чувствами, что и должно выражаться на физиономии человека, привыкшего сначала обдумать и уже потом говорить. Всмотревшись в него, вас нисколько не удивит народная молва, что он не имеет особенных способностей делать сильные возражения: он просто – «дельный адвокат». Его речи легко читаются, но в них не заметно ни риторических украшений, ни особенной учености. В нем нет излишнего юмору, но зато он одарен особенным родом остроумия, можно сказать, равносильного важной и серьёзной иронии. В нем не обнаруживается ни обширного воображения, ни замечательной утонченности рассудка; но если он не ослепляет, зато и не бывает скучным – качество весьма достаточное, чтоб быть светским человеком. Его везде и все считали за человека, одаренного здравым умом и верным рассудком.