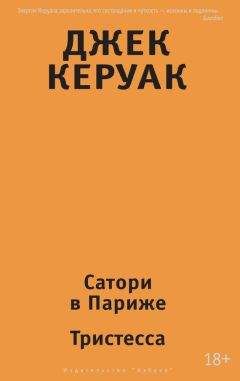Когда больше номеров в Нирване не выпадает, не будет уже и такой штуки, как «без-численность», а вот толпы на Сан-Хуан-Летране все ж были типа бесчисленны – я говорю «Сочти все эти страданья отсюда до края бескрайнего неба, кое не небо, и увидишь, сколько удастся сложить вместе, дабы получилась цифра, чтобы произвести впечатление на Босса Мертвых Душ на Мясной Мануфактуре в городе Городе ГОРОДЕ все они болят и родились умирать, колобродят по улицам в 2 ч н под этими немыслимыми небесами» – их непомерная бесконечность, простор мексиканского плато вдали от Луны – живут лишь умереть, печальную песнь этого я слышу иногда у себя на крыше в районе Техадо, в каморке на крыше, со свечами, ожидаючи мою Нирвану или мою Тристессу – ни одна не приходит, в полдень я слышу, как по ментальным радио в провалах между многоквартирными окнами играет «La Paloma»[83] – чокнутый пацан по соседству поет, вот прямо сейчас имеет место греза, музыка такая печальная, валторны ноют болью, высокие жалобные скрипки и деберратарра-рабаратарара индейского испанского диктора. Жить лишь умереть, мы тут ждем на этой полке, а вверху на небесах во всей этой золотой открытой карамели, распахнута моя дверь – Алмазная Сутра в небе.
Я ломлюсь пьяно и уныло, и трудно с пинающимися ногами по-над сомнительным тротуаром, осклизлым от растительного масла «Теуантепек», зелеными тротуарами, где роится мерзочерьвь, незримая, кроме как в улете – мертвые женщины прячутся у меня в волосах, мимоходом под сэндвичем и стулом – «Вы чокнулись!» ору я толпам по-английски «Вы не соображаете, что, к черту, делаете в этой колокольне вечности, чей язык качает кукловод Магадхи, Мара-Искуситель, безумец… А вы все сплошь орел и гончий кобел и бери – Вам лишь развел да невесть что приплел да соври – Бедные вы мамочкины тупцы, льетесь сквозь сочсущий парад своей Главноуличной Ночи и не знаете, что Господь упромыслил все в поле зрения». «Включая вашу смерть». «И ничего не происходит. Я не я, вы не вы, они неисчислимые не они, а Одно Без-Численное Я, так его вообще не бывает».
Я молюсь у ног человека, ожидая, как они.
Как они? Как Человек? Как он? Нет никакого Он. Лишь неизъяснимый божественный мир есть. Каковой не Слово, но Таинство.
В корне этого Таинства отделение одного мира от другого мечом света. —
Победители в мячном матче сегодня вечером в открытом тумане за Такабатабаваком куролесят мимо вдоль по улице, размахивая толпе бейсбольными битами, показать, как здорово они ими бьют, а толпа бродит невозмутимо вокруг, поскольку они дети, а не малолетние преступники. Они натягивают клювы бейсболок тугоястребно себе на самые носы, под моросью, постукивая по перчатке интересуются «Я разве плохо сыграл в пятом иннинге? Как я возместил тем хитом в седьмом иннинге?»
В конце Сан-Хуан-Летрана есть эта последняя череда баров, которая заканчивается в руинах тумана, полях разломанного глинобитья, ни один голый зад не прикрыт, сплошь дерево, Горький, промозглый Данко, со стоками и лужами, канавами на улице в пять футов глубиной, а на дне вода – рассыпчатое жилье против света ближайшего города – Я смотрю на окончательные печальные двери баров, где вспышки женщин, золотых сияющих кружевом поп мне видно и хочется влететь однако же птицей в полете крутясь. В дверном проеме детишки в дурацких костюмах, оркестр внутри завывает чачача, колено у всех колотится, гнясь, а они чпокают и воют под безумную музыку, весь клуб штормит, до дна, американский негр, со мною идущий, сказал бы «Эти кошаки обдалбываются по каким-то натурально хиповым оттягам, они всю дорогу дурят, завывают, все время колотятся за капусту вон ту, за шкирлу вон ту, они против дверных проемов, чувак, все воют – понимаешь? Они не знают, когда остановиться. Как Омар Хайям, интересно, что кабатчики закупают, вполовину драгоценное против того, чем они торгуют». (Мой дружбан Эл Дэмлетт.)
Я сворачиваю у этих последних баров, и тут уж дождь припускает не на шутку, и я иду быстро, как могу, и подхожу к здоровенной луже, и выпрыгиваю из нее весь мокрый, и снова прямо в нее впрыгиваю и ее пересекаю – Морфий не дает мне чувствовать влажь, кожа моя и члены немы, – как детка, когда идет кататься на коньках зимой, проваливается под лед, бежит домой с коньками подмышкой, чтоб не простудиться, я греб себе сквозь Панамериканский дождь, а сверху рев Панамериканского Самолета, заходящего на посадку в Аэропорт Мехико с пассажирами из Нью-Йорка, алчущими отыскать другой конец грез. Я подымаю взгляд в морось и смотрю, как их хвост искрит огнем – меня вы не найдете при посадке над великими городами, и я лишь стискиваю бок сиденья и вихляю, а воздушный пилот умело ведет нас к неимоверному пламенеющему врезу в бок складов в трущобном квартале Старого Индейского Городка – что? все эти крыс танц татцы с револьверами в карманах ломятся сквозь мои туманистые кости, ища чего-то из золота, а потом тя крысы сглодают.
Я лучше пешком буду, чем самолетом, тут можно пасть наземь ниц и так помереть. – С арбузом подмышкой. Mira[84].
Иду вверх по роскошной Орисаба-стрит (пересекши широкие загряженные парки у «Cinе´ Mexico» и гнетущую троллейбусную улицу, прозываемую в честь гнетущего Генерала Обрегона в дождливой ночи, с розами в волосах его матери —) На Орисаба-стрит внушительный фонтан и водоем в зеленом сквере на круглом О-развороте в жилой великолепной форме из камня и стекла, и старых решеток, и свитовых завитовых смазливых величий, что, когда смотреть на них при луне, мешаются с волшебными внутренними испанскими садами архитектуры (если архитектура угодна), созданной для приятных ночей дома. Андалузской по замыслу.
Фонтан не брызжет водой в 2 ч н, и как если б ему пришлось, под проливным дождем, а я там мимо качу такой, сидя на своем железнодорожном переключателе блокировки, проездом по-над розовеющими искрящими стрелками на рельсах подземелья, как легавые на той маленькой блядоулице 35 кварталов назад и сильно к центру —
Это гнетущая дождящая ночь меня догнала – с волос моих течет водой, ботинки хлюпают – но на мне куртка, и снаружи она промокает – но дождеотталкивающая – «Зачем я купил ее еще в Ричмондском Банке» Потом я о ней рассказываю героям, в дитёнкином сне. – Я бегу себе домой, проходя мимо пекарни, где они в 2 ч н не пекут больше поздненочные пончики, из печей вынуты гнутые кренделя и вымочены в сиропе и проданы тебе сквозь окно пекарни по два цента за штуку, и во дни помоложе я б их покупал корзинами – теперь закрыто, в дожженощном Мехико настоящего нет никаких роз, да и свежих горячих пончиков нет, и все уныло. Я перехожу последнюю улицу, замедляюсь и расслабляюсь, выпуская дух и спотыкаясь уже на своих мышцах, вот я войду, смерть там или не смерть, и посплю сладким сном белых ангелов.
Но дверь моя заперта, моя уличная дверь. Ключа к ней у меня нет, весь свет погашен, я стою, капая под дождем, и просушиться и поспать мне негде – Вижу, горит свет в окне у Старого Быка Гейнза, и подхожу и изумленно заглядываю внутрь, вижу только его золотую штору, я понимаю «Если не могу попасть к себе, так просто постучу в окошко Биллу и посплю у него в удобном кресле». Так и поступаю, стуча, и он вылазит из темного заведения на 20 примерно человек и в банном халате проходит немного по дождю между домами и к двери – подступает и щелчком распахивает железную дверь. Я вхожу за ним следом – «Не могу к себе попасть» говорю я – Ему интересно, что насчет завтра сказала Тристесса, когда они раздобудут больше дряни с Черного Рынка, Красного Рынка, Индейского рынка – Поэтому Старому Быку ништяк, что я сплю и остаюсь у него в комнате – «Пока уличную дверь не откроют в 8 ч у» прибавляю я и вдруг решаю свернуться калачиком на полу под хлипким покрывальцем, кое, сказано-сделано, будто постель из мягкого руна, и я лежу там божественный, ноги все устали и одежда отчасти мокра (завернут в большой махровый халат Старого Быка, аки призрак в турецкой бане), и все путешествие под дождем совершено, мне осталось лишь лежать и видеть сны на полу. Я сворачиваюсь и принимаюсь спать. Посреди ночи уже, под маленькой включенной желтолампочкой, а дождь снаружи рушится, Старый Бык Гейнз закрыл ставни туго, курит одну сигарету за другой и мне дышать в комнате нечем, а он кашляет «Ке-хе!» сухим кашлем торчка, будто это протест, будто он орет Проснись! – он там лежит, худой, изнуренный, длинно носый, странно привлекательный и серо власый и поджарый и шелудивые 22 в его бесхозной умудренности («учащийся душам и городам», как он себя называет), обезглавленный и выбомбленный морфием каркас – Однако кишка у него не тонка как ничто на свете. Он принимается жевать батончик, я лежу там, просыпаясь, сознавая что Старый Бык чавкает шумно батончиком в ночи – Все стороны у этого сна – В недовольстве я встревоженно озираюсь и вижу, что он мъячится и чомкает один батончок за другим, что за несообразное занятие в 4 ч у в постели – Потом в 4:30 он встает и выкипячивает пару капсул морфия в ложке, – его видно, после того, как жало засосало и откачало, большущий радый язык облизывается, чтоб он сплюнул на почернелое дно ложки и оттер ее начисто и до серебра клочком бумаги, взяв, чтоб надраить ложку по-настоящему, щепотку пепла – И снова ложится, чуть чувствуя приход, занимает десять минут, мышечная втравка, – минут около двадцати ему, видать, станет зашибись – если ж нет, вот он снова шуршит у себя в ящике, вновь будя меня, ищет свои дурцефальные сонники – «Чтоб ему заснуть».