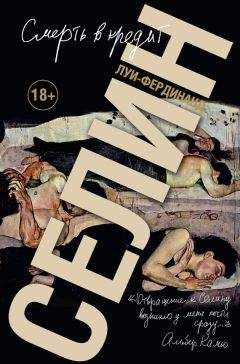Галантерейщица давала Пополю, когда он отправлялся торговать, смешную куртку, необычную, как у обезьяны в цирке, всю усеянную пуговицами: большими, маленькими, средними, спереди и сзади, целый набор образцов – перламутровых, железных и костяных…
Страстью Пополя был абсент, галантерейщица наливала ему немного каждый раз, когда он возвращался, удачно все продав. Это поднимало ему настроение. Он курил солдатский табак, мы сами делали самокрутки из газетной бумаги… Ему было не противно сосать, он был настоящей свиньей. Когда мы встречали на улице взрослого, мы спорили, какого у него размера. Моя мать не могла ни на минуту оставить барахло в таком квартале. Я же все больше отбивался от рук. А потом произошло следующее.
Я думал, что Пополь надежный, честный и верный. Я ошибался на его счет. Он повел себя, как сука. Надо рассказать, как было дело. Он все время говорил мне об аркебузе. Я не вполне представлял, что это за штуковина. Однажды он принес ее. Это была длинная резинка, натянутая особенным образом, что-то вроде рогатки, сдвоенный крюк, такое приспособление для охоты на птиц. Он сказал мне: «Потренируемся! А потом разобьем витрину!.. На проспекте есть одна подходящая… Потом пульнем в легавого!..»
Ага! Вот! Это идея! Проходим мимо школы. Он говорит: «Начнем здесь!.. Школьники как раз выходят, будет легче смотаться». И передает мне эту штуку… Я заряжаю ее здоровенным булыжником. Натягиваю до отказа… вцепившись в конец резинки… И говорю Пополю: «Смотри-ка вверх!» И клак! Бум!.. Трах!.. Прямо в часы… Все вдруг разлетается… я одеревенел. Не могу прийти в себя от этого грохота… циферблат разлетелся на кусочки! Сбегаются прохожие… Меня хватают на месте преступления. Я съежился, как крыса… Меня тащат, пиная по дороге. Я кричу: «Пополь!..» Он испарился!.. Его и след простыл!.. Они волокут меня к матери. Устраивают ей скандал. Ей придется за все заплатить, иначе меня упекут в тюрьму. Она дает свою фамилию, адрес… Я напрасно пытаюсь объяснить: «Пополь!..» На меня обрушивается столько затрещин, что в глазах помутилось…
Дома все начинается сначала, разражается гроза… настоящий ураган… Отец волочит меня по полу, пинает ногами, бьет, ходит по мне, срывает с меня штаны. А после орет, что я его убиваю!.. Что мне место в Рокетт[36]! Уже давно!.. Моя мать умоляет, хватает его, голосит, что «в тюрьме они становятся еще более жестокими». Я хуже, чем можно было бы себе вообразить… Я на волосок от эшафота. Вот как все обернулось!.. Пополя тоже вспоминали, а также улицу и прогулки… Я даже не пытался оправдаться…
Неистовство продолжалось целую неделю. Отец был так разъярен, его лицо так наливалось кровью… казалось, что его хватит удар. Дядя Эдуард специально приехал из Роменвиля, чтобы убедиться во всем самому. Дядя Артур не имел такого веса из-за недостаточной серьезности. Рудольф же был далеко, где-то в провинции с цирком Капитоль.
Соседи и родители – все в Пассаже придерживались мнения, что следовало бы дать слабительного мне и моему отцу, это пошло бы на пользу нам обоим. Размышляя о причинах моей испорченности, они решили, что это, конечно, из-за глистов… Мне дали лекарство… Я видел, как говно пожелтело, а потом стало каштанового цвета. Однако я почувствовал некоторое успокоение. Реакция моего отца была другой, он по меньшей мере недели три оставался абсолютно безмолвным. Только время от времени поглядывал на меня… долго… внимательно… Я был его мукой, его крестом. Мы продолжали принимать слабительное, каждый свое. Он – воду Жано, я – касторку, она – ревень. После этого они решили больше никогда не торговать на рынках, ибо улица – это гибель для меня. Мои преступные наклонности вынуждают от многого отказаться.
С тысячами извинений моя мать снова привела меня в школу. Пока мы дошли до улицы Женер, ее настроение несколько раз менялось. Все ей говорили, что я не продержусь и восьми дней. Однако я вел себя тихо, и меня не выгнали. Хотя я ничему так и не научился, это факт. Школа вызывала у меня отвращение, учитель с бородкой постоянно рассказывал нам только о своих проблемах. От одного его вида у меня портилось настроение. С Пополем я познал вкус бродяжничества, и меня угнетала необходимость целыми часами сидеть и слушать чьи-то бредни.
Дети пытались хоть немного развлечься во дворе, но и эти жалкие попытки разбивались о стену, возвышавшуюся над нами, мгновенно пропадало даже само желание веселиться. Им оставалось вернуться назад и усердно учиться… Черт побери!..
Во дворе росло только одно дерево, на которое всегда прилетала одна и та же птица. Эти сопляки подстрелили ее из рогатки. Кот жрал ее всю перемену. Учился я средне. Я боялся, что меня оставят на второй год. Меня даже отметили за хорошее поведение. А дерьмо на заднице было у всех. Еще я научил их собирать в бутылочки свою мочу.
Дома продолжалось нытье. Моя мать опять начала обсасывать свое горе. По любому поводу она вспоминала свою маму… Например, перед закрытием лавки к нам заходил, наконец, единственный посетитель, чтобы предложить какую-нибудь безделушку, а она вдруг заливалась слезами… «Если бы была жива моя мать!..» – принималась причитать она – она, всегда так хорошо умевшая торговаться!.. Вот к чему приводит чрезмерная склонность к размышлениям…
Одна наша приятельница довольно ловко сумела воспользоваться маминым настроением… Ее звали мадам Дивонн, она была почти ровесница тетки Армиды. После войны семидесятого года они с мужем сколотили себе состояние на торговле «овечьими» перчатками в Пассаже Панорама. Это была известная лавка, и у них была еще одна в Пассаже Сомон. Одно время у них работало восемнадцать служащих. От покупателей не было отбоя. Бабушка часто об этом рассказывала. Ее муж свихнулся от такого количества денег. Внезапно он потерял сразу все на Панамском канале и еще залез в долги. Мужчинам недостает мужества; вместо того, чтобы попытаться подняться, он укатил черт знает куда с какой-то шлюхой. Все было продано. Мадам Дивонн жила чем придется. Ее спасала музыка. У нее оставались небольшие средства, но такие мизерные, что ей едва хватало на еду. И то далеко не каждый день. Ей помогали знакомые. За перчаточника она вышла по любви. Сама она была не из семьи торговцев. Ее отец был императорским префектом. Она прекрасно играла на пианино. У нее были нежные руки, поэтому она не снимала митенки, а зимой постоянно носила толстые рукавицы, украшенные розовыми помпонами. Кокетство никогда не покидало ее.
Она пришла в лавку, она уже давно не была у нас. Смерть Бабушки ее потрясла. Она просто не могла прийти в себя. «Такая молодая!» – то и дело повторяла она. Она с чувством рассказывала о Каролине, об их прошлом, мужьях, о Сомон и Бульварах… Очень подробно и чрезвычайно тактично. Она действительно была хорошо воспитана… Я видел это… По мере того как она рассказывала, все окутывалось каким-то неясным очарованием. Она не снимала ни вуаль, ни шляпу… под предлогом заботы о цвете лица… И, конечно, из-за парика… Обед у нас был не слишком обильным… Все же ее приглашали… Но в тот момент, когда она доедала суп, она все-таки снимала шляпу, вуаль и остальные причиндалы… Она жадно пила прямо из тарелки… Она считала, что так гораздо удобнее… Конечно, из-за вставной челюсти. Было слышно, как та щелкает… Она не признавала ложек. Лук-порей она обожала, но его нужно было разрезать, это было слишком хлопотно. Трапеза заканчивалась, а она и не собиралась уходить. Она становилась развязной. Садилась к пианино, заложенному и забытому одной клиенткой. Никто его не настраивал, но оно все еще хорошо звучало.
Так как моего отца раздражало все, она тоже действовала ему на нервы, эта старая перечница со своими ужимками. И все же он смягчался, когда она начинала наигрывать мелодии вроде «Лючии ди Ламмермур»[37], а особенно «Лунную сонату».
Она приходила все чаще. Уже и без приглашения… Она видела, что дела у нас расстроены. Пока в лавке прибирали, она забиралась наверх, на третий этаж, усаживалась на табурет, исполняла два или три вальса, потом «Лючию», а потом «Вертера». У нее был свой репертуар, вся опера «Шале» и «Фортунио»[38]. Нам приходилось подниматься к ней. Она никогда не прерывала музыки, пока мы не садились за стол. «Ку-ку!..» – говорила она, увидев нас. Во время обеда она очень трогательно плакала вместе с матерью. Но это не отбивало у нее аппетита. Лапша ее не смущала. Меня всегда шокировала ее манера просить добавки. Она проделывала этот трюк с воспоминаниями во многих местах, у множества в разной степени безутешных торговцев в других лавках, где только можно. Она знала более или менее хорошо всех покойников в четырех кварталах, Май и Гайон[39]. И всегда кончалось тем, что ее кормили.
Она знала все семейные истории в Пассаже. Более того, если где-то попадалось пианино, ей не было равных… Несмотря на то что ей было за семьдесят, она могла еще спеть «Фауста», но соблюдала все предосторожности. Она давилась сырыми яйцами, только чтобы не сорвать себе голос… Она одна могла изобразить целый хор, руками делала рожок. «Вечная слава!..»[40] Ей удавалось одновременно стучать ногами и нажимать на клавиши.