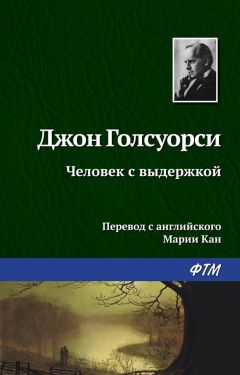Прошло три дня, прежде чем я набрался мужества снова пойти туда. И сразу же почувствовал на себе ее взгляд; она играла с бечевкой, но все время украдкой отводила глаза от своих рук, чтобы посмотреть на мое лицо. А потом прошлась по комнате, потрогала все вещи. Когда отец спросил ее: "Что с тобой, Эйли?" - она посмотрела на него, как ребенок, пойманный на шалости. И тогда я заглянул ей прямо в глаза; она пыталась ответить на мой взгляд, но не могла. Через минуту она вышла из комнаты. Бог знает, какую чепуху я нес: я был слишком счастлив.
И тогда началась наша любовь. Я. не могу рассказать вам об этом времени. Дэлтон все чаще и чаще говорил мне: "Что случилось с девочкой? На нее теперь ничем не угодишь". Всю любовь, которую она прежде отдавала отцу, она изливала теперь на меня. Но он был слишком прост и прямодушен, чтобы разобраться в происходящем. Сколько раз я чувствовал себя преступником по отношению к нему! Когда человек счастлив и судьба ему благоприятствует, он становится трусом...
V
- Так вот, сэр, - продолжал он. - Мы поженились в восемнадцатый день ее рождения. Прошло много времени, прежде чем Дэлтон увидел, что мы любим друг друга. И после этого он сказал мне с весьма серьезным видом: "Эйли мне все рассказала, Брюн. Я не дам согласия на это. Она слишком молода, а ты... слишком стар!" Мне тогда было сорок пять, и волосы мои были так же черны и густы, как перья грача, я был силен и подвижен. Я ответил ему: "Мы обвенчаемся через месяц". Мы поссорились. Была майская ночь, и я отправился пешком далеко за город. Против гнева да и вообще против чего угодно нет лучшего лекарства, чем прогулка пешком. Один раз я остановился на каком-то выгоне, кругом не было ни жилища, ни огонька, только звезды сияли, как алмазы. Ходьба меня разгорячила, я чувствовал, как кровь бурлит в жилах. Я говорил себе: "Это я-то стар!" И смеялся, как безумный. Меня мучил страх потерять Эйли. Хотелось думать, что я разгневан, на самом же деле я просто боялся. Страх и гнев у меня мало отличаются друг от друга. Один мой друг, немного поэт, однажды назвал эти два чувства "черными крыльями души". И это так, истинно так!.. Утром я снова пошел к Дэлтону и заставил его уступить. Я не философ, но мне часто думалось, что в этой жизни мы добиваемся для себя чего-то всегда за счет другого, теряющего столько же, сколько мы обрели. Но служит ли это для нас помехой? Нет, сэр, довольно редко...
Мы обвенчались тридцатого июня тысяча восемьсот семьдесят шестого года в приходской церкви. Присутствовали только Дэлтон, Люси и муж Люси, большой краснолицый человек с голубыми глазами и раздвоенной золотистой бородой. Мы договорились, что медовый месяц проведем в их гостинице, у реки. Моя жена, Дэлтон и я отправились в ресторан завтракать. Она была в сером... в платье голубиного цвета...
Он замолчал, опираясь на свою трость. Наверное, старался как можно лучше припомнить прошлое, свою молодую жену в платье "голубиного цвета", голубоглазую, златоволосую, с морщинкой между бровями и решительно сжатыми алыми устами, которые только что у алтаря произнесли слова: "И в горе, и в радости, и в достатке, и в бедности, и в здравии, и в болезни",
- В то время, сэр, - внезапно заговорил он снова, - я был щеголем. На мне, помню, был синий сюртук, белые брюки и серый цилиндр. Я и сейчас предпочел бы хорошо одеваться...
Мы отлично позавтракали и пили шампанское "Вдову Клико" - вино, которого нынче не достанешь! Дэлтон проводил нас на вокзал. Я не выношу прощаний, но они неизбежны.
В тот вечер мы с Эйли вышли погулять под осинами. Ну, что мне еще вспоминать из всей моей жизни, как не ту ночь? Сопение молодых волов у ворот; розовые цветы дремы вдоль изгородей; полная луна; летучие мыши, снующие среди стеблей! и тени от коттеджей, такие же темные, как море далеко под нами. Мы долго простояли под липой на берегу реки. Запах липового цвета! Да, человек в состоянии вынести не более половины своего счастья и не более половины своего горя...
Люси и ее муж, Фрэнк Тор, - продолжал он через минуту, - человек под стать древним викингам, который не ел ничего, кроме молока, хлеба и плодов, относились к нам очень хорошо. В этой гостинице жилось нам, как в раю, хотя, должен сказать, провианту было мало. У наших окон густо рос шиповник; когда они были открыты и ветерок шевелил ветки, казалось, что купаешься в аромате. Пока мы там жили, Эйли стала похожа на цыганку - так она загорела. Нельзя было любить ее больше, чем я. Но бывали мгновения, когда у меня замирало сердце, - казалось, она не понимает, как сильно я ее люблю. Однажды, помню, она уговорила меня поехать в лес с ночевкой. Мы целый день плыли вниз по реке, а вечером пристали в камышах под ветвями ивы и развели костер, на котором она могла бы готовить. По правде сказать, вся наша еда уже была приготовлена, но, сами знаете, романтика заключается в том, чтобы разжечь настоящий костер. "Мы не будем притворяться", - говорила она все время. Пока мы ужинали, к нам на полянку пожаловал заяц - большой такой, и до чего же удивленный у него был вид! Эйли назвала его "Высокий заяц". А потом мы сидели у прогоревшего костра и наблюдали за игрой теней, пока Эйли не ушла куда-то одна. Время тянулось очень медленно. Я встал и пошел ее искать. Солнце уже закатилось. Долго я звал ее... Прошло много времени, прежде чем я отыскал ее. Разгоряченная и раскрасневшаяся, с исцарапанным лицом и руками, с распустившимися волосами, она в своем изорванном платье походила на прекрасную лесную фею. Когда человек любит, любой мелочи достаточно, чтобы встревожить его. Мне кажется, Эйли не заметила моего испуга, но, когда мы вернулись в лодку, она обвила руками мою шею и сказала: "Я никогда больше не оставлю тебя одного".
Ночью я проснулся; кричала водяная курочка, и в свете луны мимо окна пролетел зимородок. Как чудесны были река, свет луны, деревья, тонкий, светящийся туман и тишина! Это походило на иной мир - умиротворенный, зачарованный, куда более святой, чем наш. Это было как зримое воплощение тех мыслей, что - увы, столь редко! - приходят к человеку и исчезают, как только он пытается постигнуть их. Колдовство... поэзия... святость...
Он помолчал минуту и продолжал грустно: - Я посмотрел на Эйли. Во сне, с распущенными волосами и раскрытыми губами, она казалась ребенком, и я подумал: "Покарай меня, боже, если я когда-нибудь причиню ей боль!" Как мог я понять ее, загадку и невинность ее души? Темза была свидетельницей всех радостей и всего темного в моей жизни, моих счастливейших дней и дней отчаяния. И мне приятно вспоминать о ней, потому что, знаете, со временем горькие воспоминания рассеиваются, остаются только хорошие... Но и хорошие воспоминания причиняют нам боль, боль иную - от мысли, что счастье никогда больше не повторится... Однако, - при этих словах он повернулся ко мне, еле заметно улыбаясь, - что толку плакать над пролитым молоком...
По соседству с гостиницей Люси "Роза и Боярышник"... Вы можете представить себе более прелестное название? Я объехал весь свет, но нигде мне не приходилось встречать таких красивых названий, как в английских деревнях. В английской деревне каждая травинка, каждый цветок гордятся собой; они знают, что за ними присмотрят, и все дороги, деревья и домики, кажется, полны уверенности, что они будут существовать вечно... Но я вам собирался рассказать... В полумиле от этой гостиницы стоял тихий старый дом, который мы прозвали "монастырем", хотя это, кажется, была ферма. Мы много дней провели там, без разрешения забираясь в сад. Эйли очень любила ходить по чужой земле без разрешения: если только представлялась возможность сделать крюк, но по чужой земле, она обязательно выбирала этот путь. И свой последний день мы провели в этом саду, лежа в густой траве. Я впервые читал "Чайлд-Гарольда" - чудесная, незабываемая книга! И как раз дошел до того места - боя быков, помните?
"И трижды рог звучит; сигнал уж подан,
Гул все растет. Все в ожиданье замирает",
когда Эйли неожиданно сказала: "А вдруг я перестану тебя любить?" Меня как будто ударили по лицу. Я вскочил и пытался заключить ее в объятия, но она ускользнула от меня. Потом отвернулась и тихо засмеялась. Не знаю почему, я тоже засмеялся...
VI
- На следующий день мы вернулись в Лондон. Мы жили совсем рядом со школой, и раз пять в неделю Дэлтон приходил к нам обедать. Он бы приходил каждый день, не будь он человеком, менее всего считающимся со своими желаниями. У нас было больше учеников, чем когда-либо. А в свободное время я обучал жену фехтованию. Мне не доводилось видеть существа столь проворного и гибкого. И как она была хороша в своем костюме для фехтования и вышитых туфельках!
Я был совершенно счастлив. Когда человек удовлетворен, он становится беспечным и самодовольным. Однако я следил за собой, зная, что по натуре я человек себялюбивый. Я работал, не жалея сил, и копил деньги, для того чтобы доставить ей все удовольствия, какие только мог. В то время Эйли больше всего любила верховую езду. Я купил ей лошадь, и весенними и летними вечерами мы ездили с ней вдвоем, но когда стало темнеть рано, она ездила днем одна, очень далеко, иной раз проводила в седле целый день и возвращалась домой такая усталая, что еле-еле взбиралась наверх... Не могу сказать, чтобы мне это нравилось. Это меня тревожило: ведь я знал, какая она отчаянная, но не считал себя вправе вмешиваться в ее дела. Много волнений мне доставляли также дела денежные, потому что, хоть я и зарабатывал больше, чем прежде, денег никогда не хватало. Я стремился накопить побольше... Я, конечно, питал надежду, но ребенка не было, и это тоже причиняло мне беспокойство. Эйли стала еще прекраснее и, мне кажется, была счастлива. Вам никогда не приходило в голову, что все мы живем на краю вулкана? Мне думается, у каждого человека есть какая-то привязанность или интерес, столь сильные, что по сравнению с ними он все остальное ни во что не ставит. Разумеется, человек может прожить всю жизнь, так и не зная этого. Но некоторые... Я не жалуюсь. Что есть, то есть.