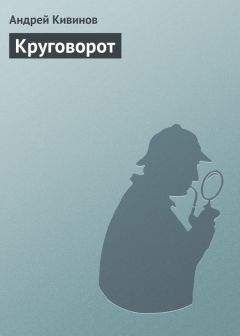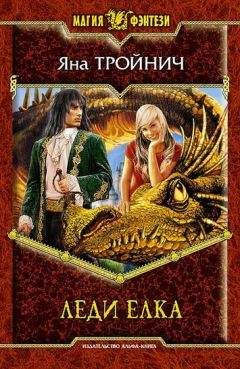- Чудак ты все-таки, Биггер, - сказал Гэс, робко улыбаясь.
Биггер видел, что Гэс радуется примирению. Теперь Биггер их не боялся, он сидел, поставив ноги на чемодан, и со спокойной улыбкой переводил глаза с одного на другого.
- Одолжил бы ты мне доллар, - сказал Джек.
Биггер достал из пачки три долларовые бумажки и оделил их всех.
- Вот, чтоб вы не говорили, что я ничего вам не даю.
- Чудак ты все-таки, Биггер, ну и чудак! - сказал опять Гэс, смеясь от удовольствия.
Но ему пора было уходить, он не мог больше оставаться здесь с ними. Он заказал три бутылки пива и взял чемодан.
- А ты что ж, не выпьешь с нами? - спросил Джо.
- Нет, мне некогда.
- Ну, увидимся.
- Пока!
Он помахал им рукой и вышел на улицу. Он шагал по снегу, и ему было весело, и немного кружилась голова. Рот у него был открыт, глаза блестели. Первый раз он находился в их компании и не чувствовал страха. Он шел незнакомой тропинкой в незнакомую страну, и ему не терпелось узнать, куда она его приведет. Он дотащил свой чемодан до перекрестка и стал ждать трамвая. Он засунул пальцы в жилетный карман и нащупал там хрустящие бумажки. Вместо того чтоб ехать к Долтонам, можно сесть на трамвай, идущий к вокзалу, и сегодня же уехать из города. Но что тогда будет? Если он вдруг сбежит, все поймут, что ему известно что-то про Мэри. Нет, гораздо лучше сидеть на месте и выжидать. Пройдет немало времени, пока они догадаются, что Мэри убита, и еще больше, пока кому-нибудь придет в голову, что это сделал он. Когда обнаружится, что она пропала, подумают скорей всего на красных.
Подошел дребезжа трамвай, и он сел и доехал до Сорок седьмой улицы, а там пересел на другой, идущий в восточный район. Он тревожно вглядывался в смутное отражение своего черного лица в запотевшем стекле двери. Вокруг него все белые - кто из них догадается, что он убил богатую белую девушку? Никто. Украсть десять центов, изнасиловать женщину, пырнуть кого-нибудь ножом по пьяному делу - этому всякий поверит; но убить дочь миллионера и сжечь ее труп? Он слегка улыбнулся, чувствуя, как у него по телу разливается жар. Все казалось ему теперь очень простым и ясным: будь таким, каким тебя считают люди, а сам поступай по-своему. В какой-то мере он так и делал всю свою жизнь, но это выходило у него слишком шумно и неловко, и только вчера, когда он задушил Мэри на ее постели, а ее слепая мать с протянутыми руками стояла в двух шагах, он понял, как это нужно делать. Он все еще дрожал немного, но настоящего страха не было. Было только сильное лихорадочное возбуждение. С этими я справлюсь, подумал он про мистера и миссис Долтон.
Одно беспокоило его: по-прежнему у него все время стояла перед глазами окровавленная голова Мэри на ворохе промокших газет. Вот только бы от этого избавиться, и все будет хорошо. Все-таки чудная она была, подумал он, вспомнив все поведение Мэри. Надо же так! Черт, да она сама заставила меня это сделать. Не валяла бы дурака! Не приставала бы ко мне, ничего бы и не было! Он не жалел Мэри; она не была для него реальностью, живым существом; он ее слишком мало и слишком недолго знал. Он чувствовал, что это убийство с лихвой оправдано тем страхом и стыдом, который она заставила его испытать. Ему казалось, что это ее поступки внушали ему страх и стыд. Но когда он подумал, он пришел к убеждению, что едва ли это было так. Он сам не знал, откуда взялось это чувство страха и стыда, просто оно было, вот и все. Каждый раз, когда он соприкасался с ней, оно вспыхивало, жарко и остро.
Этот стыд и этот страх относились не к Мэри. Мэри только послужила поводом для проявления того, что было вызвано многими Мэри. И теперь, когда он убил Мэри, напряжение, сковывавшее его мышцы, ослабло; свалился невидимый груз, который он долго нес на себе.
Трамвай шел по заснеженным рельсам; подняв глаза, он видел за окном, на покрытых снегом тротуарах, прохожих-негров. Этим людям тоже знакомо было чувство стыда и страха. Много раз он стоял вместе с ними на перекрестках и разговаривал о белых, глядя на элегантные длинные автомобили, проносившиеся мимо. Для Биггера и таких, как он, белые не были просто людьми; они были могущественной силой природы, как грозовые тучи, застилающие небо, или глубокая бурливая река, вдруг преградившая путь в темноте. Если не переходить известных границ, ему и его черным родичам нечего было бояться этой белой силы. Но - грозная ли, нет ли - она всегда была с ними, каждый день их жизни; даже не называя ее вслух, они постоянно чувствовали ее присутствие. Покуда они жили здесь, в черте отведенных им кварталов, они платили ей безмолвную дань.
Бывали изредка минуты, когда его охватывала безудержная потребность в единении с другими черными людьми. Он мечтал дать отпор этой белой силе, но его мечты рушились, как только он оглядывался на окружавших его негров. Хотя он был такой же черный, как и они, он чувствовал себя совсем не похожим на них, настолько не похожим, что это делало невозможным общие стремления и общую жизнь. Только под угрозой смерти могло так случиться, только если страх и стыд загонят их всех в угол.
Глядя из окна трамвая на идущих мимо негров, он думал, что единственный способ навсегда покончить со стыдом и страхом - это объединить всех этих черных людей, подчинить их себе, сказать им, что нужно делать, и заставить их делать это. Он смутно чувствовал, что должна быть такая сторона, куда ему и другим черным людям оказалось бы по дорого; такая точка, где сошлись бы сосущий голод и беспокойные стремления ума; такой образ действий, в котором и тело и душа обрели бы твердость и веру. Но он знал, что никогда этого не будет, и он ненавидел своих черных сородичей, и, когда он смотрел на них, ему хотелось протянуть руку и убрать их с глаз долой. И все-таки он надеялся, безотчетно, но упорно. В последнее время он особенно охотно прислушивался к рассказам о людях, которые умели подчинять себе других людей, потому что в этом умении ему чудился выход из трясины, засасывавшей саму его жизнь. Ему казалось, что когда-нибудь явится негр, который силой сгонит всех негров в сплоченную толпу, и они двинутся и сообща одолеют стыд и страх. Он никогда не думал об этом в конкретных образах: он это чувствовал; чувствовал некоторое время и потом забывал. Но где-то глубоко внутри в нем всегда была жива эта надежда.
Страх принудил его затеять драку с Гэсом в биллиардной. Если б он был уверен в себе и в Гэсе, он не стал бы драться. Но он знал Гэса и знал себя - и был убежден, что в решительный момент любого из них страх может вывести из строя. Так разве можно было и думать о налете на лавку Блюма? Он боялся и не доверял Гэсу и знал, что Гэс боится и не доверяет ему; и, попытавшись объединиться с Гэсом для общего дела, он с той же минуты возненавидел бы и Гэса, и себя. В конечном счете, однако, его ненависть и надежда обращены были не к себе самому и не к Гэсу - надеялся он на нечто доброжелательное и неясное, что поможет ему и выведет из тупика; а ненавидел белых, потому что он чувствовал их власть над собой даже тогда, когда они были далеко и не думали о нем, чувствовал эту власть даже в том, как он сам относился к своему народу.
Трамвай полз по снегу; до бульвара Дрексель остался один квартал. Он поднял чемодан и пошел к выходу. Через несколько минут он узнает, сгорела ли Мэри. Трамвай остановился, он вышел и, увязая в глубоком снегу, зашагал к дому Долтонов.
Дойдя до подъезда, он увидел, что машина стоит там, где он ее вчера оставил, только мягкий снежный покров укутал ее всю. Рядом белел дом, большой и безмолвный. Он отпер ворота и прошел мимо машины, все время видя перед собой Мэри, ее окровавленную шею у самой дверцы топки и голову с вьющимися черными прядками на куче промокших газет. Он помедлил. Еще можно повернуться и уйти. Можно сесть в машину и к тому времени, когда кто-либо хватится, быть ужи за много миль отсюда. Но зачем бежать без крайней надобности? Деньги у пего есть, и он успеет сделать это, когда придет срок. И револьвер у него тоже есть. Руки его дрожали, и ему трудно было отпереть дверь; но они дрожали, не от страха. Он испытывал какой-то подъем, уверенность, полноту, свободу; вся его жизнь сошлась в одном, полном высшего значения акте. Он толкнул дверь и застыл на месте, с трудом вбирая ноздрями воздух. В красных отблесках пламени темнела человеческая фигура. Миссис Долтон! Нет, она казалась выше и полнее, чем миссис Долтон. О, это Пегги! Она стояла к нему спиной, чуть-чуть согнувшись. Она как будто всматривалась в закрытую дверцу топки. Она не слышала, как я вошел, подумал он. _Может быть, уйти_? Но не успел он пошевелиться, как Пегги обернулась:
- А, Биггер, доброе утро!
Он не ответил.
- Вот хорошо, что вы пришли. Я только собралась подбавить угля.
- Я сейчас сделаю, мэм.
Он подошел к котлу, напряженно стараясь разглядеть сквозь щели дверцы, не осталось ли в топке каких-либо следов Мэри. Став рядом с Пегги, он увидел, что и она смотрит сквозь щели на красную груду тлеющих углей.