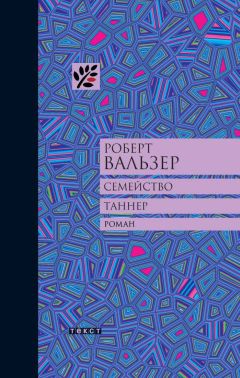ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
Симон отнес письмо на почту. В следующее воскресенье приехал в гости Клаус, старший брат. День выдался дождливый, озноб пробирал при взгляде на едва распустившиеся цветы, по которым хлестали холодные дождевые капли. На лице у Клауса отразилось удивление, когда он увидел, что у сестры обосновался Симон, он-то думал, что брат уехал за границу, однако постарался проявить наивозможное дружелюбие, потому что не хотел портить воскресенье. Все трое держались вполне спокойно, часто останавливались друг против друга, не говоря ни слова, словно бы искали что сказать. Вместе с Клаусом в жилище Хедвиг вошло некое задумчивое недоумение. Они заговаривали то об одном, то о другом, да только все не к месту. Речь шла, конечно, о присутствии здесь Симона. Клаус не хотел сегодня делать упреки, хотя они поистине так и просились на язык, однако он избегал замечаний, которые могут привести к ссоре. Смотрел на брата вопросительно и со значением, будто желая сказать: «Я удивлен твоим поведением. Ты же взрослый человек! Достойно ли использовать положение родной сестры, чтобы изображать тунеядца? Поистине в этом не много чести! Я бы так прямо тебе и сказал, но щажу Хедвиг, которая наверняка обидится. Не хочу портить воскресный день!» Симон его понял. Он совершенно точно знал, что означали этот взгляд, эта чопорная, принужденная радость встречи, это молчание и замешательство. Хорошо хоть, Клаус молчит, иначе пришлось бы отвечать, а ему давным-давно претило оправдываться. Конечно, конечно! Для молодого человека положение у него чертовски паршивое, и ведет он себя непростительно. Только вот находиться здесь все же так замечательно, так замечательно. Уступив внезапной слабости, он сказал Клаусу:
— Я хорошо знаю, что и как ты обо мне думаешь, но клянусь, скоро это кончится. Полагаю, ты немножко меня знаешь. Ты мне веришь?
Клаус протянул ему руку, и воскресный день был спасен. Скоро они сели обедать, и Хедвиг, втайне посмеиваясь, явно заметила перемену в ситуации меж братьями. «Все-таки Клаус добрый! Очень добрый», — подумала она, с огромным удовольствием подавая на стол вкусные блюда. Сначала восхитительный суп, в приготовлении которого Хедвиг была большая мастерица, затем свинина с тушеной капустой, а под конец жаркое, нашпигованное салом. Симон непринужденно разглагольствовал о мире и о людях, вовлекал брата в самые разные разговоры и то и дело с комическим восторгом нахваливал превосходную еду, чем всякий раз так смешил Хедвиг, что она совершенно развеселилась и забыла обо всех так называемых заботах. После обеда, несмотря на ненастную погоду, они совершили непродолжительную прогулку. Поле, по которому они медленно шагали, размокло, и вскоре пришлось повернуть обратно. Вечером все трое опять притихли. Симон пытался читать газету, Клаус словно бы намеренно говорил о самых незначительных вещах, Хедвиг рассеянно отвечала. Прежде чем попрощаться, Клаус позвал сестру на кухню и сказал ей несколько слов, не предназначенных для ушей находящегося в комнате. Что бы это могло быть? Ах, да не все ли равно. Затем Клаус ушел. Когда брат и сестра, немного проводив гостя, вновь сидели дома одни, на душе у обоих невольно повеселело, как у школьников после ухода строгого инспектора. Они дышали свободнее и чувствовали себя как раньше. Хедвиг заговорила, и встревоженность тем, что она собиралась сказать, сделала ее голос задушевнее и звонче:
— Клаус верен себе. При нем почему-то всегда испытываешь легкий страх. В его присутствии невольно превращаешься в виноватую школьницу, ожидающую нагоняя за легкомыслие. Для него мы всегда легкомысленны, хотя бы и действовали со всею серьезностью. Его глаза смотрят по-иному, мир видится им внушающим тревогу, словно все время надо чего-то бояться. Он вечно создает заботы, и себе и другим. И вечно говорит тоном, составленным из тысяч деликатных сомнений, так мало в нем доверия к миру и к узам, которые сами собою связывают человека с этим миром. И вид у него такой, будто он намерен поучать, и ведь прекрасно видит, что поучает, сам того не желая: не хочет поучать, а все равно поучает, против воли, просто в силу своей натуры, и винить его тут не в чем. Он невероятно добр и ласков, однако ж всегда сомневается, уместно ли быть добрым и мягким. Строгость ему совершенно не к лицу, тем не менее он полагает, что строгостью достигнет того, чего, как ему кажется, добротой достичь не сумел. По его мнению, доброта неосторожна, и все же он очень добр. Запрещает себе быть безобидным и добрым, хотя хочет быть именно таким, запрещает потому, что вечно боится что-то этим испортить, боится выглядеть легкомысленным в глазах окружающих. Он видит только глаза, наблюдающие за ним, и не замечает тех, которым хочется спокойно посмотреть в его глаза. В его глаза нельзя смотреть спокойно, поскольку чувствуешь, что его это тревожит. Ему все время кажется, что люди думают о нем, и он хочет выяснить, что именно они думают. Коли не замечает в человеке какого-нибудь изъяна, к коему может придраться, он чувствует себя вроде как не в своей тарелке. А ведь он добряк! Только несчастливый. Будь он счастлив, вмиг бы заговорил иначе, я знаю. Не то чтобы он завидовал чужому счастью, но его постоянно тянет критиковать счастье и непринужденность других, от чего наверняка сам же и страдает. Он не любит слушать разговоры о счастье, и я понимаю, в чем тут дело. Ясно ведь, любой ребенок поймет: тот, кто сам не радуется, не терпит чужой радости. Как же он, наверно, страдает, ведь в нем достаточно благородства, чтобы чувствовать, что он поступает несправедливо. Да, он весьма благороден, но… как бы это сказать… чуточку испорчен внутри, самую малость испорчен пренебрежением ближних и собственными усилиями не обращать на это внимания. Ах, вообще-то он обойден судьбой, а для ее капризов и холодности он слишком большая ценность. Вот так бы я сказала, потому что мне его жаль! Например, ты, Симон! О Господи. К тебе испытываешь совсем иные чувства, весельчак ты мой! Знаешь, о тебе всегда думаешь: надо бы устроить ему взбучку, хорошую взбучку, он ее заслужил! Глядя на тебя, диву даешься и недоумеваешь, как это ты еще не рухнул в пропасть. Никому и в голову не придет тебе сочувствовать. Все ведь считают тебя беззаботным, дерзким, счастливым, верно?..
Симон громко рассмеялся и тем задал настрой, который продержался целый час. Потом в дверь постучали. Оба встали, Симон пошел посмотреть, кто там. Оказалось, соседка-учительница. Прибежала вся в слезах. Муж, человек грубый, необузданный, снова ее избил. Они стали ее утешать и сумели-таки успокоить.
Дни становились все теплее, земля — щедрее, она покрылась толстым цветущим ковром лугов, поля и нивы дышали паром, леса в своем прекрасном, свежем, пышном зеленом уборе ласкали взор. Вся природа выставляла себя напоказ, потягивалась, выгибалась, распрямлялась, шелестела, жужжала, шуршала, благоухала и покоилась словно дивная, красочная греза. Сельская округа сделалась тучной, грузной, загадочной и сытой. Как бы вольготно разлеглась в своей щедрой сытости. Зеленоватая, темно-бурая, пятнисто-черная, белая, желтая, красная, она цвела, жарко дыша и чуть ли не умирая от цветения. Лежала как укрытая покрывалом лентяйка, недвижная, трепеща своими членами и благоухая ароматами. Сады источали ароматы на дороги и в поля, где трудились мужчины и женщины; плодовые деревья полнились звонким, певучим щебетом, а ближний, округлый, сводчатый лес, казалось, пел голосами юношей; светлые дороги едва проглядывали сквозь зелень. На просеках глаз любовался белесым, мечтательным, ленивым небом, которое словно бы опускалось вниз и громко ликовало, как ликуют пташки, мелкие пташки, которых никогда не видно и которые очень под стать природе. В памяти оживали воспоминания, только совсем не хотелось вникать в их подробности и додумывать до конца, не было сил, они причиняли сладостную боль, но от лености не хотелось и боль прочувствовать полностью. Так ты и ходил, и останавливался, и поворачивался во все стороны, глядел вдаль, вверх, вниз, вправо, влево, и дух у тебя захватывало от истомы этого цветения. В лесу жужжание не такое, как на просторной прогалине, оно совсем иное, требующее нового подхода и новых мечтаний. Приходилось постоянно с этим бороться, упорствовать, тихонько отвергать, размышлять и нерешительно колебаться. Ведь все было нерешительностью, усилием, ощущением собственной слабости. Но до чего же это сладостно, да-да, сладостно, чуть тягостно, вдобавок чуть скаредно, потом лукаво, потом плутовато, а потом вовсе никак и совершенно глупо; под конец становилось весьма трудно хоть что-то счесть красивым, ты уже не находил повода для этого, просто сидел, ходил, бродил, плыл по течению, спешил и медлил, ставши частицей весны. Могло ли жужжание восхищаться собой — жужжанием, щебетом, пением? Дано ли траве любоваться собственным красивым колыханием? Может ли бук заглядеться на себя самого? Ты не уставал, не впадал в тупое безразличие, но позволял всему идти своим чередом, колыхаться туда-сюда. Вообще, природа, какой она являла себя глазу, была медлительностью, ожиданием и трепетом! Ароматы насыщали воздух, а вся земля полнилась ожиданием, о чем с блаженным восторгом говорили краски. В цветущем кусте словно бы сквозило какое-то до времени истомленное предчувствие. Словно бы нежелание продолжать, улыбка, и только. Синие, затянутые дымкой лесистые горы пели точно далекие-предалекие охотничьи рога, ландшафт казался слегка английским, походил на пышный английский парк, именно пышность и накатывающий волнами гомон навевали мысль об этом сходстве. Ты думал, что вот так же, как здесь и сейчас, все могло бы выглядеть там-то и там-то, здешняя округа вызывала в душе образы множества иных мест. Странное чувство, влекущее вдаль, влекущее прочь и несущее обратно, — приношение словно от юных отроков, предложение словно от маленьких детишек, покорство и настороженность. Думать и говорить ты мог что угодно, неизменно оставалось все то же недосказанное, недодуманное! Легко и тягостно, блаженно и мучительно, поэтично и естественно. Ты понимал поэтов, нет, вообще-то не понимал, ведь, шагая вот так, становился слишком медлительным, чтобы думать, будто их понимаешь. Да и зачем что-то понимать? Оно не понималось и опять-таки понималось само собою, растворяясь в напряжении слуха, ищущего звук, или во вглядывании вдаль, или в воспоминании, что вообще-то пора идти домой, исполнив таким образом обязанность, пусть и весьма незначительную, ведь обязанности надобно исполнять и весной.