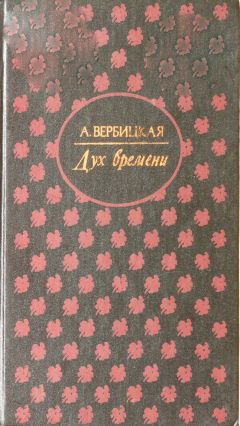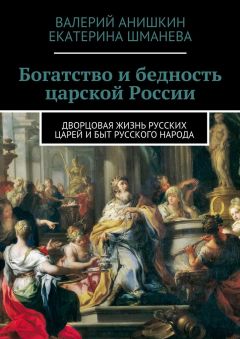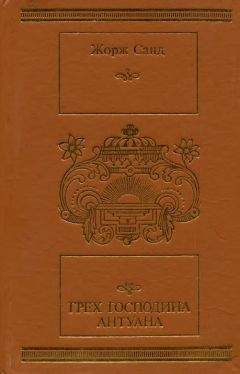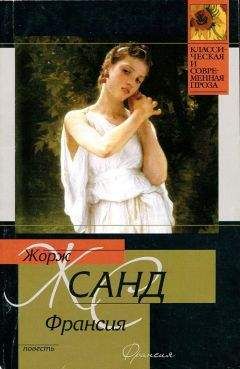IX
В ту первую осень, в 1902 году, когда Тобольцев вернулся из-за границы, как-то раз он запоздал к обеду.
Его квартира казалась особенно светлой и уютной в этот холодный октябрьский вечер… Официально здесь жили только Тобольцев, кухарка его, нянюшка да ее звери: слепая собака, глухая кошка, которую мальчишки вытащили из колодца, навсегда лишившуюся слуха от холодной ванны, да красивый, молодой петух. Он звонко пел на кухне, особенно громко в полночь и на заре, и это нравилось Тобольцеву… На самом же деле, все диваны и углы были заняты временными жильцами: молодежью без денег и без заработка.
В этот вечер, только Тобольцев сел обедать, раздался робкий, просительский звонок, и в переднюю вошел молодой человек в одном старом, наглухо застегнутом сюртуке. Шея была повязана красно-бурой тряпкой, когда-то шарфом. На ногах еле держались штиблеты, из которых наивно глядели пальцы. От просителя пахло водкой. Он дрожал от холода и униженно кланялся нянюшке, прося вызвать хозяина.
Няня не выносила пьяных. Она попросила его уйти. Он начал грубо требовать «барина»… Старушка рассердилась.
— Что там такое? — раздался из столовой звучный баритон.
— Да, вот, батюшка, озорника Господь наслал… Не выживу никак… Не было печали… В третий раз приходит…
Проситель съежился, увидав высокую фигуру хозяина.
— Чем могу служить?
— Артист Чернов… По сцене — Чарский… Без ан-га-же-мента… Вот письмо… От Макcи…мова… А вот афиши…
— Артист? Очень рад! Милости просим!.. Не хотите ли отобедать? Нянечка, прибор! И супу дайте…
— Тьфу! — сплюнула старушка, хлопая дверью. Артист торопливо прятал за пазуху пучок засаленных газет и афиш.
— Садитесь, пожалуйста!.. Водочки? Икры?.. Господа, познакомьтесь! Артист Чарский… Студенты: Степанов, Палечек… техник Станкин… Ситников, скрипач и свободный художник…
— Но без хлеба, — добродушно пробасил тот, встряхивал пышными кудрями.
— Это наживное, — засмеялся хозяин и налил вина «артисту», который совершенно сконфузился от такого неожиданного приема. — Так вас Максимов прислал ко мне? Отлично сделал… Это мой старый приятель. Он у меня почти год в номере жил, лет пять назад… Тоже вот так без ангажемента очутился. Ну, играли мы с ним в Охотничьем не раз. Платили ему разовые… Перебился зиму… Где он теперь? Я слышал, что он Калугу держал. Но только не посчастливилось?
— Теперь у Со-лов-цова, в Киеве[111]… Так вы тоже… любитель-ствуете? — как-то странно скандируя слоги, спросил гость.
— Еще бы! Театр моя жизнь… Моя единственная страсть!
— Это такой, знаете ли, талант! — крикнул Степанов.
— Коли на сцену пойдет, всех вас за пояс заткнет, — убежденно пробасил скрипач.
— Вот как!.. Отчего же вы не… де-бю-ти-ру-ете?
— Не увлекайтесь, друзья мои! Для любителя, знаю, я — неплох… Но артистом быть… Нет, господа! Надо еще поучиться. Я так высоко ценю искусство!.. Но, сознаюсь, это моя мечта с самого детства. И лучшие минуты моей жизни прошли все-таки в театре… Выше этого нет ничего!.. Выпьем, господа, за искусство! — Они чокнулись.
Чернов согрелся, к какой-то барский апломб послышался в его тоне. Вообще, несмотря на нищету, в нем был виден барич.
— Да… У вас есть дан-ные для сцены, — промямлил он.
— Эх, кабы вы его в Кудряше видели! Или в Андрее, в «Женитьбе Белугина»… Куда они там все, на казенных сценах, годятся перед ним!
— О нем даже в газетах писать стали… Честное слово!
— Вот как! — В Чернове уже шевелился червяк профессиональной зависти, не допускающей, чтобы хвалили другого.
— А вы — резонер или любовник? — спросил Тобольцев, и глаза его заискрились.
Чернов выпрямился и провел грязной рукой по редеющим, но еще красивым кудрям.
— И любовник… и герой… Пред-почитаю трагический ре-пер-туар, — неожиданно октавой докончил он.
Разговорился он охотно. Но его тягучая манера говорить не была приятна. Он так странно скандировал слоги, точно учился читать… Отдельные слова он вдруг подчеркивал, другие цедил с какой-то фатовской интонацией. Потом, среди рассказа, внезапно задумывался и начинал повторять какое-нибудь слово… И это было смешно. Поминал он, конечно, про свои успехи в Харькове и Киеве; говорил о блестящем турне в волжских городах, о подарках, газетных отзывах… Все слушали молча, с невольной жалостью. Так страшно казалось каким-нибудь неосторожным вопросом отрезвить этого неудачника! Он лгал — все это чувствовали, — но это была импровизация мечтателя. То, что давало силу жить.
Когда поднялись из-за стола, Чернов вдруг потерялся. Уцелевшее в нем чувство порядочности протестовало против подачки, как нищему, после этих интимных излияний, после этого приятного обеда… А между тем, не это разве было целью его прихода? Он неделю уже спал в ночлежке, среди отребья столицы, поминутно дрожа за свой паспорт и афиши, которые у него могли выкрасть во время сна.
Тобольцев понял.
— Куда же вы? Оставайтесь у меня!
— Как?.. У вас?
— Ну, конечно… Пока не найдете ангажемента… Господа, как вы думаете? Можно вам потесниться в кабинете?
— Ну чего там? — пробасил Ситников. — Конечно, можно…
— Ну и отлично! А пока до свидания! Я на репетицию…
Чернов благодарил, потирая вспотевшие от волнения руки.
На другой день он уже был как дома. Он видел, что Ситников и другие сожители — не в лучшем положении, чем он сам… И он, как другие, курил хозяйские папиросы; бросал пепел в дорогие вазоны с цветами и на ковры, заплеванные и запачканные сапогами без калош; валялся на красивой мебели, все грязня, всюду оставляя следы богемы; как другие, являлся сюда, словно в трактир, чтоб поесть, часто без хозяина, уйти по своим делам и вернуться только к ночи.
Чернов был нахален. Он первый предложил Тобольцеву выпить на ты и очень скоро стал говорить ему: «Ах ты, свинья!.. Ну и скотина же ты!» По его понятиям, это были лучшие выражения дружбы… Все в доме оказывали нянюшке почтение, ценя ее заботу. Чернов же относился к ней свысока и даже грубо, когда выпивал. И старушка возненавидела его.
Скоро эта вражда и все уколы, которыми она старалась отравить ему жизнь, настолько заполнили ее существование, что, исчезни Чернов внезапно, она почувствовала бы пустоту.
— Сознайтесь, нянечка, что вы влюблены в него, — настаивал Тобольцев, когда она потихоньку жаловалась хозяину.
— Тьфу!.. Тьфу… Нашел, что сказать!.. Уж такой озорник! Такой пакостник!.. Много у тебя гольтепы этой ночует и живет. Но такого лодыря еще не насылал Господь…
— Не притворяйтесь, нянечка!.. Такие-то и неотразимы для женщин. А он еще красивый малый…
— Особенно как твой новый спинжак сносит! — ядовито подхватывала старушка. — Что и говорить! Будешь красив… Лодырь!..
На другой же день хозяин предложил Чернову поехать вместе в клуб на репетицию.
— Пожалуй, — снисходительно согласился тот. Но, вспомнив о своем костюме, сконфузился.
— Право, это вздор!.. Не хотите ли надеть мою пиджачную пару? Положим, она на вас будет немного широка…
— Это пустяки, — заторопился Чернов.
За парой, конечно, понадобились штиблеты, затем манишки, галстук, запонки… Чернов во всем чужом как-то сразу преобразился. По дороге они заехали к парикмахеру, и Чернов вышел оттуда совсем красивым молодым человеком, несмотря на отек лица, подстриженный по моде, надушенный…
В «кружке» его встретили с любопытством и даже уважением.
«Артист Чарский», — говорил Тобольцев.
Он знал, что делал. Он верил в человека.
Чернов подтянулся с первого же вечера и за ужином отказался выпить. Тактику Тобольцева он оценил, потому что был неглуп от природы… Когда-то он был милым, добрым и богато одаренным ребенком. И детство его в разорявшейся постепенно дворянской семье прошло счастливо. Разорение не дало ему кончить курса в гимназии, а мечты и тщеславие влекли на подмостки… Теперь опять проснулось все светлое в его душе.
— Андрюшка! — говорил он, заливаясь слезами, когда все-таки не выдерживал зарока. — Нет-т таких людей, как ты! Ты Карл Моор[112]… Пони-маеш-шь?
— Да не ори! Всех перебудишь…
— Нет, ты послу-шай, что я без тебя был бы? Ведь мне тюрь-ма оставалас-сь… Черт… Дай, я тебя поцелую!.. Понимаешь?.. Теперь… только потр-ребуй жертвы… Понимаешь?.. Прикажи украсть… укр-ра-ду… Прикажи убит-ть… уб-бь-ю…
— Ладно… А пока ложись спать! Третьи петухи у нянюшки на кухне запели. И пить я тебе больше не дам!
Чтоб доставить Чернову хотя б карманные деньги, Тобольцев приглашал его играть и платил ему рублей десять за спектакль из собственного кошелька. Чернов на подмостках воспрянул духом… Он играл с увлечением, хотя часто обижался на режиссера-Тобольцева. Мягкий и деликатный в жизни, тот в театре был цепной собакой, как он выражался. Он требовал, чтоб роли знали назубок, чтоб на репетиции являлись аккуратно, чтоб был «ансамбль», чтоб все подчинялись воле и указаниям режиссера. С Черновым он часто ссорился.