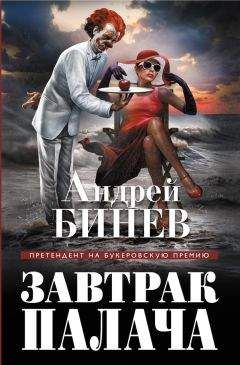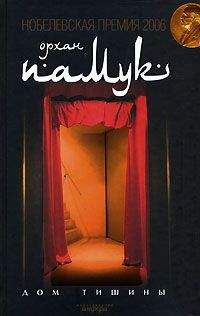Я находил его там, где он заснул, и со страхом шел будить его, чтобы не увидела Госпожа и чтобы он не продолжал пить и не замерз на холоде; я говорил ему: «Господин, зачем вы здесь лежите, пойдет дождь, вы простудитесь, идите домой, лягте у себя в комнате». Он ворчал, разговаривал сам с собой своим старческим голосом, ругался: «Проклятая страна! Проклятая страна! Все впустую! Вот закончить бы мне эти тома или хотя бы отправить сначала эту брошюру издателю Эстефану, сколько сейчас времени, уже все спят, весь Восток спит, нет, не впустую все, но я больше не могу, вот была бы у меня такая женщина, как я хочу; Реджеп, сынок, скажи, когда твоя мама умерла?» Наконец он вставал, брал меня под руку, и я его уводил. По дороге он бормотал: «Когда, говоришь, они проснутся? Дурни – спят глупым сном: погрузились в дурацкий покой лжи и спят, с первобытной радостью веря, что в мире все устроено так, как об этом говорит вздор и первобытные сказки, существующие у них в голове. А я возьму палку, буду стучать им по голове и разбужу их! Глупцы, забудьте об этой лжи, проснитесь и прозрейте!» Когда он, опираясь на меня, поднимался к себе в комнату, дверь Госпожи тихонько открывалась изнутри, в полутьме появлялись ее полные отвращения и любопытства глаза и тут же исчезали. И тогда он говорил: «Ах эта бестолковая женщина, бедная бестолковая трусливая женщина, как ты мне противна, Реджеп, уложи меня в постель, а когда я проснусь, приготовь мне кофе, я хочу сразу начать работать, мне нужно торопиться, они поменяли алфавит, все статьи энциклопедии перепутались, я за пятнадцать лет не смог привести ее в порядок», – говорил он, а потом засыпал, что-то бормоча. Некоторое время я смотрел, как он спит, и тихонько выходил из комнаты.
Видимо, я задумался. Но тут заметил, что ребенок одной из женщин смотрит на меня как зачарованный. Мне стало неприятно. Я решил попытаться отвлечься, но не вытерпел, встал и взял свои бутылки.
– Я приду потом.
Вышел от мясника, иду в бакалею. Не так-то просто вытерпеть детское любопытство. В детстве мне и самому было любопытно, что со мной. Я думал, что я такой потому, что мама родила меня незамужней, но так я стал думать после того, как мама сказала, что мой отец на самом деле мне не отец.
– Дядя Реджеп! – позвал кто-то. – Ты меня не заметил?
Это Хасан.
– Ей-богу, я тебя не видел. Я задумался, – ответил я. – А ты что здесь делаешь?
– Ничего, – ответил Хасан.
– Ступай, Хасан, домой и садись за уроки, – велел я. – Что ты будешь здесь делать? Тебе здесь не место.
– Это еще почему?
– Не думай, что я тебя гоню отсюда, сынок, – сказал я. – Я тебе говорю это, чтобы ты шел домой заниматься.
– Дядя, я не могу заниматься по утрам, – сказал Хасан. – Очень жарко. Занимаюсь по вечерам.
– И по вечерам занимайся, и по утрам, – посоветовал я. – Ты ведь хочешь учиться, да?
– Ну конечно хочу, – сказал он. – Да это и не так трудно, как кажется. Я буду хорошо учиться.
– Дай-то бог, – ответил я. – А сейчас давай иди домой.
– А что, Фарук-бей приехал? – спросил он. – Я видел его белый «анадол». Как они? Метин с Нильгюн тоже приехали?
– Приехали, – сказал я. – У них все хорошо.
– Передай привет Метину и Нильгюн, – попросил Хасан. – Вообще-то я только что видел Нильгюн. Мы ведь дружили в детстве.
– Передам, – пообещал я. – А ты иди домой!
– Сейчас иду, – сказал он. – Я хочу тебя кое о чем попросить, дядя Реджеп. Ты можешь дать мне пятьдесят лир? Мне нужно купить тетрадь, тетради очень дорогие.
– Ты что, куришь? – спросил я.
– Я же говорю – тетрадь кончилась…
Я поставил бутылки на землю, вытащил и дал ему одну купюру в двадцать лир.
– Этого не хватит, – возразил он.
– Ну все, хватит, – сказал я. – Теперь я уже сержусь.
– Ладно, – ответил он. – Куплю карандаш, что еще делать.
Уходя, он добавил:
– Только отцу не говори, ладно? Он расстраивается из-за всякой ерунды.
– Ну вот видишь! – сказал я. – Не огорчай отца.
Он ушел. Я взял свои бутылки и направился к бакалейщику Назми. Там вообще никого не было, но Назми был занят. Писал что-то к себе в тетрадь. Потом взглянул на меня, мы немного поболтали.
Он спросил о братьях с сестрой. «Все хорошо», – сказал я. Как Фарук-бей? Зачем мне сообщать, что Фарук пьет, он и так это знает, тот приходит к нему каждый вечер за бутылкой. А другие как? Уже взрослые. «Девочку я вижу часто, – сказал он, – как ее зовут?» Нильгюн. Она приходит по утрам за газетой. Выросла. Да, выросла. Но по-настоящему вырос младший, сказал я. Да, Метин. Его Назми тоже видел и рассказал, каким он ему показался. Вот то, что мы называем болтовней и дружеской беседой. Мы рассказываем друг другу о том, что нам и так известно, и мне это нравится; я знаю: слова и фразы – все это пустое, но я обманываю сам себя, и мне это нравится. Он взвесил все, что я просил, и разложил по пакетам. Запиши мне сумму на бумагу, попросил я. Дома я потом переписываю к себе в тетрадь и в конце каждого месяца, а зимой раз в два-три месяца показываю Фаруку-бею. «Вот счета, Фарук-бей, – говорю я, – вот столько-то потратили, вот на это и на то, проверьте, нет ли в счетах какой-нибудь ошибки». Он даже не смотрит. Говорит: «Хорошо, Реджеп, спасибо, вот тебе на домашние расходы, а вот твое месячное жалованье», – и вытаскивает из кошелька влажные, мятые, пахнущие кожей купюры. Я беру, кладу в карман, не считая, благодарю его, и мне сразу хочется сменить тему разговора.
Назми записал все суммы на листке бумаги и протянул его мне. Я заплатил. Когда я выходил из магазина, он внезапно сказал:
– Помнишь Расима?
– Рыбака Расима?
– Да, – сказал он. – Умер вчера.
Он смотрел на меня, а я молчал. Взял сдачу, авоську и пакеты.
– Говорят, от сердечного приступа, – продолжал он. – Хоронить будут послезавтра днем, когда приедут его сыновья.
Вот так: от того, что мы говорим, не зависит ничего.
Я приехал в Гебзе в девять тридцать, к этому времени улицы уже нагрелись, и от утренней прохлады не осталось и следа. Я сразу пошел в здание районной администрации и написал заявление для работы в архиве. Какой-то чиновник не глядя поставил номер на мое заявление, и я представил, как спустя триста лет какой-нибудь историк найдет его заявление среди развалин и попытается истолковать. Работа историка – сплошное развлечение.
Развлечение-то развлечением, размышлял я, но все же требует терпения. И с гордостью за свое терпение и с верой в себя я приступил к работе. Мое внимание сразу привлекла история двух лавочников, убивших друг друга в драке. А родственники обоих давно похороненных и оплаканных драчунов подали друг на друга в суд. 17‑го числа месяца Великой Клятвы 998 года[38] свидетели в подробностях рассказывали, как прямо посреди рынка произошла драка на ножах. Сегодня утром я взял с собой таблицы перевода дат по Хиджре на христианское летоисчисление и поэтому заглянул туда. Это 24 марта 1590 года! Значит, все произошло зимой! А между тем, когда я записывал этот случай, я все время представлял себе знойный, жаркий летний день. Может быть, это был солнечный мартовский день. Потом я прочитал протокол судебного разбирательства, начатого одним человеком. Купив за шесть тысяч акче раба-араба, он выяснил, что у того на ноге рана, и пытался вернуть раба продавцу. Ясно было, в каком гневе он диктовал писцу, как его обманули слова продавца и как глубока рана на ноге у раба. После этого я прочитал об одном разбогатевшем землевладельце, против которого выступал весь Стамбул. Из ранних судебных бумаг явствовало, что двадцать лет назад тот же самый человек, работая сторожем на пристани, попал в суд за злоупотребления. Я пытался узнать из ферманов, какими проделками в Гебзе занимался этот человек, по имени Будак. Теперь я искал упоминания о нем, а не о чуме. Я узнал, что однажды он, кажется, зарегистрировал несуществующий участок земли, платил два года подряд за него налоги из собственного кармана, потом поменял этот участок на сад и, обманув нового владельца участка, скрылся. С одной стороны, мне казалось, что Будак мог бы совершить такое, но некоторые места в судебных бумагах вроде бы говорили обратное. Я изрядно попотел, чтобы согласовать все, что нашел в бумагах, с этой историей. Потом нашел и другие документы, подтверждавшие мою историю, и очень обрадовался. Новый сад дал урожай винограда, и Будак наладил виноделие в хлеву, принадлежащем другому человеку, и торговлю вином из-под полы. Я с удовольствием читал, что, защищаясь от обвинений некоторых людей, задействованных им при торговле, он нападал на них гораздо сильнее, чем они. Затем он приказал построить в Гебзе маленькую мечеть. И я удивился, вспомнив, что в книге учителя истории об известных людях Гебзе об этом человеке и этой мечети написано всего лишь несколько страниц. Будак, которого изображал учитель истории, был совершенно не похож на того, которого представлял себе я. В книге учителя был изображен уважаемый, солидный житель Османской империи, портрет которого можно поместить в учебники по истории. А мой Будак был хитрым и ловким мошенником. Я задавался вопросом, смогу ли я выдумать новую, насыщенную еще большим количеством приключений историю, которая не будет противоречить официальным документам, но тут Рыза сообщил мне, что архив закрывается на обеденный перерыв.