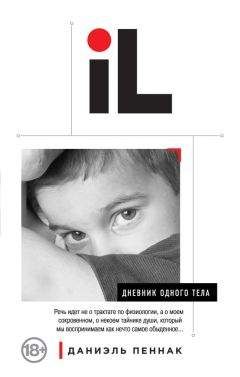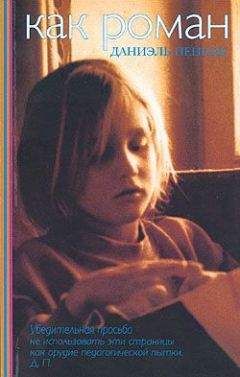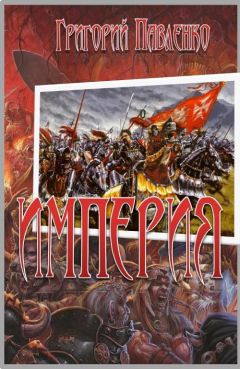Во время его похорон шел дождь. Чарли Чаплин, Дуглас Фербенкс, Джордж Ульман и Джозеф Щенк стояли у гроба. У кинематографа было большое сердце. И как бы сильно ни лил дождь, слезы из глаз Полы Негри лились еще сильнее.
Гроб поместили в поезд, направлявшийся в Голливуд.
— Это я должен был умереть, а не он.
Но он не отступился.
Он покинул Голливуд и отправился в путь, без бороды и парика, похожий на Валентино (с точностью до закорючки). Мюзик-холл — вот о чем он теперь помышлял. Быть Руди на сцене. «Чтобы восстановить добрую память о нем», — оправдывался он. Он не будет ни шейхом, ни гусаром, ни сногсшибательным тангиста, нет; он просто будет рассказывать настоящую историю Родольфо Пьетро Филиберто Рафаэлло Гульельми ди Валентина, он же Валентино, появившийся на свет в том же году, что и кинематограф, точнее, 6 мая, в Кастелланате, в Апулии, в Италии, на Ионийском море, земле латифундистов. Он опишет его восхождение, «от хлопковых полей его детства до шелковых рубашек Голливуда», он будет восхвалять его скромность, его сомнения, его доброту, его щедрость, его умиротворенное изящество, его чувство чести и его преданность, он расскажет, как пересеклись их дороги, и как Валентино спас его от всего, «в том числе и от меня самого», и каким режиссером всепланетного масштаба мог бы стать Валентино, если бы злоба людей не сожрала его живьем. Руди был первым из тех лучших, которые всегда уходят первыми: вот что он скажет! И насколько он сам, здесь, на грешной земле, был всего лишь его бледным отражением, настолько же черной внутри была чистая душа Валентино. Он скажет и не только это. Он дойдет до слишком рано умершего отца Валентино, офицера кавалерии, ставшего ветеринаром, он опишет портрет его матушки, Габриэль Барбен, уроженки героического Эльзаса, он вспомнит также двух братьев и маленькую сестренку Марию. Пусть только его пригласят, и он расскажет все это: во имя чистейшей правды!
Однако ничего не предлагают.
Нигде.
Хозяин одного из клубов возразил ему, что никто в мире не смеет теперь походить на Валентино. Разве Христос имел когда-либо двойника? До распятия — да, пророков было хоть отбавляй, но после? Нельзя быть двойником Иисуса: его сторонники этому воспротивятся.
— Раз меня нигде не хотят принимать, я буду появляться везде.
Он обратился в слова.
Он распространился по всей территории Соединенных Штатов Америки.
— Мне это не в новость — пересекать континенты!
Везде, где ему наливали стаканчик, он выкладывал свою правду. Когда его хорошенько орошали, это давало свои плоды. Например, он был бесподобен, когда описывал стенания Полы Негри над гробом Валентино. «Она вырвала свое сердце и бросила в черную дыру, ее пришлось удерживать силой, чтобы она не отправила туда же свою печень». По его словам (он посматривал на свой стакан, щуря глаза), Ульман купил это отчаяние у агентов Полы. «Правдоподобно!» Ульману была совершенно необходима «завывающая скорбь самки», чтобы спасти честь Руди. Каждая слеза Полы была выторгована по цене бриллианта. Целый град драгоценных камней покрыл тело покойного перед отходом в вечность. Благодаря слезам Полы в течение недели, последовавшей за похоронами, шестьдесят пять женщин («настоящих!») заявили, что они беременны от Валентино.
— Клевета! Вздор! Брехня!
Возможно, но в тех барах, где он рассказывал эти истории, его просили продолжать. Пророки приходят извне, и людям хочется верить именно в невероятное. Этот вот весьма чутко относился к подробностям, а слабый акцент (но откуда же он все-таки?) окружал его слова нимбом правды. Ему опять наливали.
Прошло несколько лет. Голливуд откопал Валентино. Они захотели снять о нем фильм.
— Я поспешил туда, чтобы получить главную роль.
Но годы…
И алкоголь…
— Они не захотели взять меня даже на роль старика Гульельми.
Тогда он вспомнил одну фразу самого Валентино (то ли она была произнесена в той машине, в компании Чаплина, то ли он прочел ее в «Вэрайети» или слышал за кулисами Голливуда…), в которой Руди утверждал, что не боится наступления времени, предсказывая, что он «уйдет молодым», отказывался стареть, хотел «сохранить свой образ» и остаться таким, каким представлялся сейчас, «ad vitam aeternam»[34].
Поэтому требовалось, чтобы кто-нибудь согласился стариться вместо него.
— Это и был мой жребий. Мой. Мое терпение. И когда утром в зеркале я вижу свою рожу, я говорю себе, что Руди был чертовски прав: стать в его случае было бы настоящим преступлением!
На несколько месяцев ему выпала передышка в его нескончаемом падении. Одной доброй, но строгой любовнице удалось оторвать его от стойки, она заставила его прикусить язычок и вернула к его настоящей профессии: цирюльника. «Из любви», как она говорила. Однако он заподозрил, что она любила в нем то, что осталось от Руди. Напрасно она спрашивала, кто был этот Руди (она сама совсем недавно эмигрировала из Венгрии), в ответ она всегда слышала все то же: «Ты не любишь меня ради меня самого!»
Он также ставил ей в упрек, что она не была «настоящей женщиной».
И потом, алкоголь оставляет слишком много шрамов на щеках своих клиентов; цирюльника больше не было.
Когда падаешь, ты падаешь. Он вновь пустился в свои турне холостого проповедника. «Хотите правды? Так вот, Валентино был святым!» Он каялся: «Это я его убит». Он заливался слезами над своим стаканом: «Его репутация импотента — это все моя вина».
О! Ему все же выпала небольшая радость. Однажды утром в одном из мотелей Арканзаса он нашел старую газету, где было написано короткой строкой: «некий Мануэль Перейра да Понте Мартинс — диктатор одной банановой республики — получил пулю между глаз в день национального праздника». Памс! От убийцы ничего не осталось, его растерзала толпа. Он на мгновение испугался, как бы этот убиенный президент не оказался его собственным двойником. Но нет, в газете уточнялось, что у власти встал полковник Эдуардо Рист, главнокомандующий армией. Значит, убитый был настоящим Перейрой. Кого-то, вероятно, достала bacalhau do menino. Шампанского!
Однажды он заметил, что говорил в пустоту. «Что, вы не видели „Четырех всадников Апокалипсиса“? „Алимони“ тоже? А „Шейха“? Даже „Шейха“? Название „Шейх“ вам ничего не говорит? Ну тогда „Сын шейха", тоже ничего?» Тоже ничего. Валентино растворился во времени. Его имя не отдавалось даже слабым эхом в сознании молодежи. Да и старики начали терять к нему интерес с тех пор, как кино научилось говорить. Что это за чудак, который донимает их своим немым фантомом?
Они с Руди ошиблись: на кинопленке не было вечности. Америка шла вперед, и на земле, как и на небе, оставалось одно лишь забвение.
— Аминь.
Самым оглушительным его успехом оказалось его провальное падение. Но как этот парень закладывал, просто диву даешься! Нужно было его видеть, чтобы поверить. И при этом он даже не ирландец! Ему наполняли стакан, делая ставки. Он никогда не свалится. Когда его спрашивали, почему он столько пьет, он отвечал, что солнце когда-то превратило его в кость сепии:
— Нечто вроде белой соломы, которую дают попугаям, чтобы они заткнулись, понимаешь?
Он умер одним зимним вечером 1940 года, в Чикаго, в кинозале. Там крутили «Диктатора» Чарли Чаплина. Фильм рассказывал историю одного цирюльника, который стал двойником одного диктатора. Диктатор кружил по всему свету, а у двойника даже не было имени.
Когда билетерша стала трясти за плечо этого припозднившегося зрителя, думая, что он уснул, тело замертво рухнуло к ее ногам. Полицейским, которые спросили у нее, не заметила ли она чего-либо странного, девушка сказала, согласившись: да, у скончавшегося все лицо было «залито слезами». (Это ее слова.)
— Умер от смеха, — предположил первый, тот, что был помоложе.
— Нет, это одно преступление и два преступника, — ответил второй.
Носком ботинка он пнул бутылку «J&B» под сиденьем жертвы. Бутылка была пуста.
«Dirty cops»[35], — все шептала билетерша этой ночью. Ей никак не удавалось заснуть. Она все вспоминала лицо умершего, омытое слезами.
— Dirty cops…
Ох, как этой книге не достает женщин и как я желал бы воспользоваться этой паузой, лежа в своем гамаке, чтобы впустить женщину на эти страницы, рассказать, например, твою историю, маленькая билетерша, историю, которая, может быть, длится и по сию пору, потому что весьма вероятно, время продлило твою жизнь до наших дней…
Скажи мне, что ты такое, что ты собой представляешь в этот день, первого декабря 1940 года? (Я, к слову, буду выжидать еще четыре года, чтобы появиться на свет в этот же день.) Что ты делаешь, когда тебе не надо рассаживать по местам этих пожирателей попкорна? Ты в самом деле билетерша или просто студентка? Ученица на актерских курсах? Ты ведь обожаешь кино, так? Для тебя оно будто всегда существовало, не правда ли? Оно — «вся твоя жизнь». Сколько тебе, шестнадцать лет, семнадцать? И твой любимчик — Богарт, Хэмфри Богарт. Ну же, не отпирайся, я это понял, когда ты прошептала «Dirty cops» (выражение Богарта, его самые слова), и, Боже мой, как ты мила в этом плащике а ля Богарт, который родители запрещают тебе носить, а этот пояс, завязанный узлом, придает тебе вид шпионки… Где ты прячешь свой габардин, ведь они не желают видеть эту гадость в доме? Здесь, в кинотеатре? У тебя есть здесь свой шкафчик? Такой металлический? С фото Боджи на оборотной стороне дверцы? А может, это идея директора: одевать своих билетерш под Богарта?