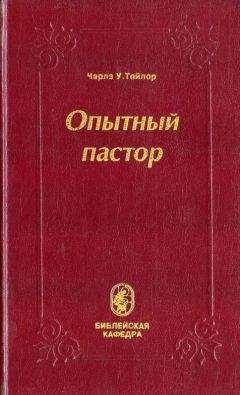Мистрисс Дэль была недовольна ответом, впрочем не рассердилась.
– А это очень хорошо было бы для обоих, проговорила она едва слышным голосом.
– Джакомо, сказал Риккабокка, раздеваясь, по наступлении ночи, в отведенной ему большой, уютной, устланной коврами спальне, в которой стояла покрытая пологом постель, сильно располагавшая каждого видом своим к супружеской жизни: – Джакомо, сегодня вечером мне предлагали до шести тысяч фунтов, а четыре тысячи наверное.
– Cosa meravigliosa! воскликнул Джакеймо:– вот удивительная вещь!! Шесть тысяч английских фунтов! да ведь это более ста тысяч…. что я! более полутораста тысяч миланских фунтов!
И Джакеймо, сделавшись особенно развязным после водки сквайра, начал делать выразительные жесты и прыжки, потом остановился и спросил:
– И это не то, чтобы так, ни за что?
– Нет, как же можно!
– Экие эти англичане рассчетливые! Что же вас хотят подкупить, что ли?
– Нет.
– Не думают ли вас совратить в ересь?
– Хуже, сказал философ.
– Еще хуже итого! Ах, какой стыд, падроне!
– Полно же дурачиться: дай-ка лучше мне мой колпак. – Никогда не знать свободы, покойного сна здесь, продолжал доктор, как будто оканчивая какую-то мысль и указывая на изголовье своей постели (негодование в нем, по видимому, усиливалось):– быть постоянным угодником, плясать по чужой дудке, вертеться, метаться, хлопотать по пустому, получать выговоры, щелчки, ослепнуть, оглохнуть к довершению благополучия, – одним словом, жениться!
– Жениться! вскричал Джакеймо тонами двумя ниже: – это в самом деле нехорошо; но зато более чем сто-пятьдесят тысяч лир и, может быть, хорошенькая лэди, и, может быть….
– Очень миленькая лэди! проворчал Риккабокка, бросившись на постель и поспешно накрываясь одеялом. – Погаси свечку да убирайся и сам спать!
Немного дней прошло после возобновления исправительного учреждения, а уже всякий наблюдатель заметил бы, что что-то недоброе делается в деревне. Крестьяне все были очень унылы на вид, и когда сквайр проходил мимо их, они снимали шляпы как будто не по обыкновенному порядку; как будто не с прежнею простодушною улыбкою они отвечали на его приветствие:
«Добрый день, ребята!»
Женщины кланялись ему стоя у ворот или у окон своих домов, а не выходили, как прежде, на улицу, чтобы сказать два-три слова с ласковым сквайром. Дети, которые, после работы, обыкновенно играли на завалинах, теперь вовсе оставили эти места и как будто совершенно перестали играть.
Два или три дня эти признаки были заметны; наконец ночью в ту самую субботу, когда Риккабокка спал на кровати под пологом из индейской кисеи, исправительное учреждение сквайра приведено было в прежний и еще худший вид. В воскресенье утром, когда мистер Стирн, встававший ранее всех в приходе, шел на гумно, то увидал, что верхушка столбика, украшавшего один из углов колоды, была сломлена и четыре отверстия были замазаны грязью. Мистер Стирн был человек слишком бдительный, слишком усердный блюститель порядка, чтобы не оскорбиться таким поступком. И когда сквайр вышел в свой кабинет в половине седьмого, то постельничий его, исправлявший также должность каммердинера, сообщил ему с таинственным видом, что мистер Стирн имеет донести ему о чем-то чрезвычайном.
Сквайр удивился и велел мистеру Стирну войти.
– В чем дело? вскричал сквайр, перестав в эту минуту править на ремне свою бритву.
Мистер Стирн ограничился тем, что вздохнул.
– Ну же, что такое?
– Этого еще никогда не случалось у нас в приходе, начал мистер Стирн: – и я могу только сказать, что наше учреждение совсем обезображено.
Сквайр снял с плечь салфетку, которою предварительно завесился, положил ремень и бритву, принял величественную позу на стуле, положил ногу на ногу и сказал голосом, которому хотел сообщить совершенное спокойствие:
– Не тревожься, Стирн; ты хочешь сделать мне донесение касательно исправительного учреждения; так ли я понял? – Не тревожься и не спеши. Итак, что же именно случилось и каким образом случилось?
– Ах, сэр, вот изволите видеть, отвечал мистер Стирн, и потом, рисуя пальцем правой руки на ладони левой, он изложил все происшествие.
– Кого же ты подозреваешь? Будь хладнокровен, не позволяй себе увлекаться. Ты в этом случае свидетель, – беспристрастный, справедливый свидетель. Это неслыханно, непростительно!.. Но кого же ты подозреваешь? я тебя спрашиваю.
Стирн повертел свою шляпу, поднял брови, погрозил пальцем и прошептал: «я слышал, что два чужеземца ночевали сегодня у вашей милости.»
– Что ты, неужели ты думаешь, что доктор Риккейбоккей оставил бы мягкую постель и пошел бы замазывать грязью колоду?
– Знаем мы! он слишком хитер, чтобы сделать это сам, но он мог подучить, рассеять слухи. Он очень дружен с мистером Дэлем, а ваша милость изволите знать, как у последнего вытягивается лицо при виде колоды. Постойте крошечку, сэр, погодите меня бранить. У нас в приходе есть мальчик….
– Час от часу не легче! ужь теперь мальчик! Что же, по твоему, мистер Дэль испортил колоду! ну, а мальчик-то что?
– А мальчик был настроен мистером Дэлем; чужеземец в тот день сидел с ним и с его матерью целый час. Мальчик очень смышлен. Я его как нарочно застал на том месте – он спрятался за дерево, когда колода была только что перестроена – этот мальчик Ленни Ферфилд.
– У, какая чепуха! сказал сквайр, свистнув: – ты, кажется, не в полном рассудке сегодня. Ленни Ферфилд примерный мальчик для целой деревни. Прошу поудержать свой язычок. Я думаю, что это сделали не из наших прихожан: какой нибудь негодный бродяга, может, медник, который шатается здесь с ослом; я видел сам, как этот осел щипал крапиву у колоды. Ужь это одно доказывает, как дурно медник воспитал свою скотину. – Будь же теперь внимателен. Сегодня воскресенье: неловко начинать нам суматоху в такой день. После обедни и до самой вечерни сюда сходятся зеваки со всех сторон ты сам хорошо это знаешь. Таким образом участники в преступлении, без сомнения, будут любоваться своим делом, может быть, похвалятся при этом и обличат себя; гляди только в оба, и я уверен, что мы нападем на след прежде вечера. А уж если нам это удастся, так мы порядком проучим негодяя! прибавил сквайр.
– Разумеется, отвечал Стирн и, получив такое приказание, вышел.
Глава XVII.
– Рандаль, сказала мистрисс Лесли в это воскресенье:– Рандаль, ты думаешь съездить к мистеру Гэзельдену?
– Думаю, отвечал Рандаль. – Мистер Эджертон не будет против этого, и как я не возвращаюсь еще в Итон, то, может быть, мне долго не удастся видеть Франка. Я не хочу быть неучтивым к наследнику мистера Эджертона.
– Прекрасно! вскричала мистрисс Лесли, которая, подобно женщинам одного с нею образа мыслей, имела много светскости в понятиях, но редко обнаруживала ее в поступках:– прекрасно, наследник старого Лесли!
– Он племянник мистера Эджертона, заметил Рандаль:– а я ведь вовсе не родня Эджертонам.
– Но, возразила бедная мистрисс Лесли, со слезами на глазах:– это будет стыд, если он, платив за твое ученье, послав тебя в Оксфорд, проводив с тобою все праздники, на этом только и остановится. Эдак не делают порядочные люди.
– Может быть, он сделает что нибудь, Но не то, что вы думаете. Впрочем, что до того! Довольно, что он вооружил меня для жизни; теперь от меня зависит действовать оружием так или иначе.
Тут разговор был прерван приходом других членов семейства, одетых, чтобы идти в церковь.
– Не может быть, чтобы было уже пора в церковь! Нет, еще рано! вскричала мистрисс Лесли.
Она никогда не бывала готова во-время.
– Ужь последний звон, сказал мистер Лесли, который хотя и был ленив, но в то же время довольно пунктуален.
Мистрисс Лесли стремительно бросилась по лестнице, прибежала к себе в комнату, сорвала с вешалки своей лучший чепец, выдернула из ящика новую шаль, вздернула чепец на голову, шаль развесила на плечах и воткнула в её складки огромную булавку, желая скрыть от посторонних взоров оставшееся без пуговиц место своего платья, потом как вихрь сбежала с лестницы. Между тем семейство её стояло уже за дверьми в ожидании, и в то самое время, как звон замолк и процессия двинулась от ветхого дома к церкви.
Церковь была велика, но число прихожан незначительно, точно так же, как и доход пастора. Десятая часть из собственности прихода принадлежала некогда Лесли, но давно уже была продана. Теперешний пастор получал немного более ста фунтов. Он был добрый и умный человек, но бедность и заботы о жене и семействе, а также то, что может быть названо совершенным затворничеством для образованного ума, когда, посреди людей, его окружавших, он не находил человека, достаточно развитого, чтобы можно было с ним разменяться мыслию, переступавшею горизонт приходских понятий, погрузили его в какое-то уныние, которое по временам походило на ограниченность. Состояние его не позволяло ему делать приношения в пользу прихода или оказывать подвиги благотворительности; таким образом он не приобрел нравственного влияния на своих прихожан ничем, кроме примера благочестивой жизни и действия своих увещаний. Прихожане очень мало заботились о нем, и если бы мистрисс Лесли, в часы своей неутолимой деятельности, не употребляла поощрительных мер в отношении прихожан, в особенности стариков и детей, то едва ли бы пол-дюжины человек собирались в церковь.