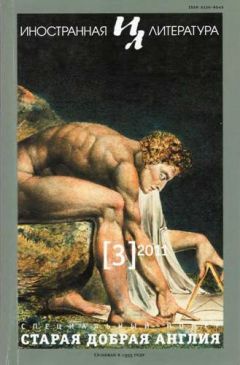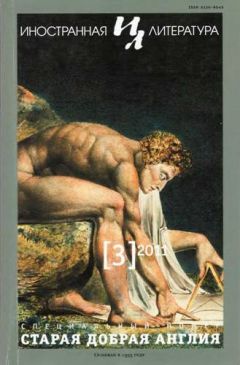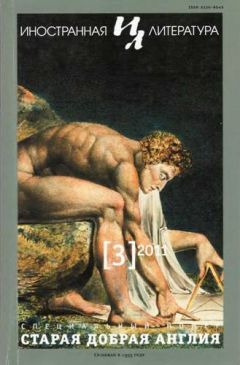прямо в ловушках в ведро с водой. Тонули они ужасно долго. Джеффри так радовался, что даже подобрел к парням, но лишь на вечер. Наутро он вновь стал собой. В итоге изловили девятнадцать крыс. Уверен, с других частей острова им давно пришла замена.
Вчера Джеффри чуть было не покинул остров после скандала с курицей. Вообще, начало ссоре положил Ганс, когда с напускной застенчивостью намекнул, будто бы Петро, перед тем как зарезать птицу, которую мы только что съели на обед, изнасиловал ее. Уверен, Ганс не ожидал, что Джеффри отреагирует столь вспыльчиво; на какое-то время мне и впрямь показалось, будто он выжил из ума. Он принялся орать что-то несвязное, одновременно с этим выхватил пистолет и несколько раз выстрелил в Петро, который в тот момент проходил невдалеке. Пули просвистели мимо, да и Петро вряд ли мог подумать, что Джеффри это всерьез и что его жизни грозит опасность. Приняв пальбу за игру, парень пришел в восторг и был польщен, ибо Джеффри вообще редко когда удостаивает его вниманием. Хохоча во все горло, Петро побежал к скалам и, как был в одежде, сиганул в море. Джеффри пальнул еще пару раз ему вдогонку, но тут вмешался Ганс.
Позвали Амброза и объяснили ему ситуацию; Петро устроили допрос. Он всячески отрицал свою причастность к преступлению; хотя, очевидно, даже не понял, из-за чего такая суета.
– И потом, мой хороший, – обратился Амброз к Джеффри, – птицу тщательно приготовили…
Джеффри ответил, что собирает манатки и убирается «к чертям из этого вонючего, грязного Содома». Правда, вместо того чтобы уехать, он сильно напился и больше разговоров об отъезде не вел.
Мне кажется, историю с изнасилованием курицы Ганс выдумал, чтобы позлить Джеффри. Ему нравится поддевать его. Он спит и видит, как Джеффри уезжает. Однако же нет, Вальдемар недавно раскопал истину: Петро и правда ни при чем. Птицу обесчестил Тео. Доложив мне об этом, Вальдемар в голос расхохотался и сказал:
– Боже, чего только за границей не повидаешь! Представь, что кто-нибудь пойдет на такое свинство в Берлине!
Мне эта выходка, конечно, противна. Не столько потому, что это извращение, сколько потому, что это жестокое обращение с курицей. И да, если честно, от мысли, что я тоже съел ее кусочек и тем самым, пусть и не напрямую, взаимодействовал с Тео, меня начинает тошнить. Впрочем, как сказал Амброз, мясо потом хорошо приготовили, и я набираю эти строки с невольной улыбкой…
Что творит со мной остров?
Этим утром у меня состоялся долгий разговор с Амброзом. Вот уж не думал, что добиваться беседы наедине придется так долго. Нет, поговорить с Амброзом с глазу на глаз можно всегда, если ты готов просидеть полночи за выпивкой, пока Джеффри с Гансом не уйдут спать, но к тому времени и Амброз совсем захмелеет и не сможет осмысленно общаться. Днем он желает быть в гуще событий, а потому всецело одобряет то, что мы обращаемся к нему в любое время, по любым вопросам, даже самым банальным. Таким образом, поговорить с Амброзом можно, но следует приготовиться к тому, что тебя перебьют. Когда же помешавший разговору человек уйдет, Амброз уже и не вспомнит, с чем ты к нему обратился, – ну или сделает вид, будто не помнит. Придется начинать все сначала.
Однако этим утром, прогуливаясь – в последнее время я занимаюсь этим все реже из-за жары, похмелий и стремительно тающего интереса к остальной части острова, – я наткнулся на Амброза. Тот в совершенном одиночестве бродил среди камней на дальнем берегу. Он изучал литораль [40], которую хотел бы охватить стеной дома и устроить из нее аквариум.
– Было бы забавно провести сюда лестницу от самого дома. А еще разбить здесь рощицу и установить бельведер, чтобы отдыхать и пить вино, когда устанешь от вида на другой стороне острова… Чему ты улыбаешься, мой хороший?
– Да просто… Ты рассуждаешь так, будто планируешь провести тут остаток жизни.
– Почему бы и нет? – Амброз как-то резко взглянул на меня.
– Ты же сам говорил, что селяне пока еще не решили, продавать тебе остров или нет. А вдруг они не договорятся? Что станешь делать?
– Зря ты это! – раздраженно воскликнул Амброз. – Зачем было портить мне настроение?
– Прости, Амброз. Не думал, что ты обидишься. Слушал Ганса и решил, что тебе нравится путешествовать…
– Ненавижу мотаться! Я же не по собственной воле переезжаю с места на место! Я вообще чувствую себя ужасно, когда приходится покидать номер в отеле или каюту на пароходе, но мне не дают обосноваться, нигде… – Я еще никогда не видел Амброза в таких расстроенных чувствах; в его глазах даже стояли слезы. – Вот почему в большинстве мест просто нельзя жить. Из-за людей. Я ненавижу их всей душой. Вечно они требуют уживаться со своим узколобым, ограниченным взглядом на жизнь. А если ты не согласен, то ты уже для них нечто чудовищное. И ничего не остается, кроме как немедленно двигаться прочь…
Амброз замолчал, несомненно охваченный неприятными воспоминаниями о ссорах с управляющими отелями, мрачных допросах в полиции городов мира. Желая тактично вернуть его в более приятную часть прошлого, я спросил:
– Жалеешь, что покинул Кембридж?
Однако вопрос, очевидно, оказался нетактичным. Амброз сделался очень подозрительным.
– Что тебе наговорил Джеффри?
– Ничего! В смысле о тебе в Кембридже ничего. Он вообще не говорил, что вы с ним там общались… – Последнее предложение я произнес с вопросительной интонацией, но Амброз не обратил внимания. Неуверенность его, впрочем, прошла, выражение лица смягчилось.
– Я бы оставался там вечно. Знаешь, я мог бы стать доном [41], и мне бы даже, наверное, понравилось. Я получал очень хорошую стипендию, а мой руководитель называл меня самым многообещающим студентом потока.
– Тогда почему?.. – спросил было я, но тут же осекся, сообразив, что его, скорей всего, отчислили.
– В Англии невыносимо, – отрезал Амброз, почти подтвердив мои подозрения. – Я туда ни за что не вернусь. Никогда. Что бы ни случилось. – Он зло и с вызовом посмотрел на меня, как бы ожидая возражений патриотического или еще какого толка. Но я молчал, и он продолжил: – У меня была просто райская комната. В той части колледжа, что сохранилась с восемнадцатого века. Потолок там не трогали, молдинги [42] – оригинальные. Окна выходили на живописные задворки. Я оформил гостиную в изумрудно-зеленых тонах – не знаю, как это смотрелось бы сегодня, но тогда это было жутко модно – и пользовался только зеленым фарфором. В чаше на столе всегда лежали зеленые яблоки. Потом я приобрел пару гравюр Памелы Бьянко [43] и замечательное бюро, украшенное мозаикой. А еще привез много венецианского стекла, которое обожал, потому что оно принадлежало моей бабушке, а