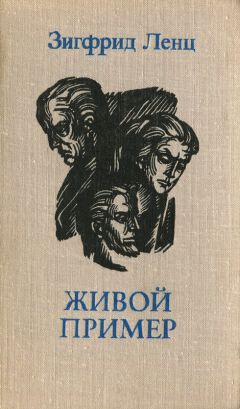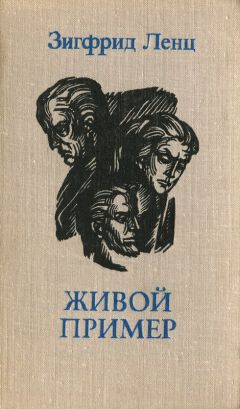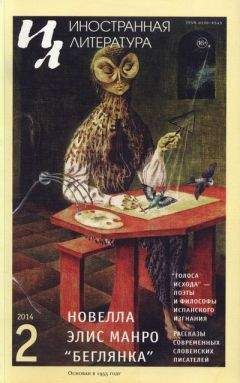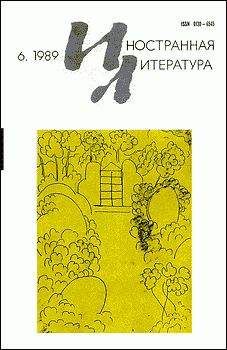— А если он скрывал эти причины?
— Он и скрывал. Конечно же, скрывал, иначе всего этого не случилось бы. Если уж вы спрашиваете, так я скажу: раз мы не знаем причин, так нам остается только предполагать, и я, я лично полагаю, что Харальд здорово умел скрывать страх.
Она захлопывает крышку большого чемодана, но замки не лязгают — огромная коробка печенья тотчас выпятила свой профиль из-под кожаной крышки, она не сплющивается даже под воздействием веса Лилли и мешает; что ж, значит, коробка отправится в путь в деревянном ящике с книгами, почему бы и нет…
— Страх? — переспрашивает Пундт. — Харальд скрывал страх?
— Он сидел здесь, а я работала, дело было давно. Он прочел в газете заметку, занявшую его мысли: какой-то парень поставил в Таймс-сквере, в Нью-Йорке, раскладной стульчик. Он сидел там целый день, а рядом с ним стояла канистра. Вечером он, написав несколько слов на клочке бумаги, протянул его первому попавшемуся прохожему, облил себя бензином и чиркнул спичкой. В записке стояло: «…и все это того не стоит». Он был студент, ему предстояли экзамены. Я работала, но помню, Харальд постукивал пальцем по этой оборванной фразе, отыскивал ее смысл, искал причины этого поступка, да, и решил, что то были страх и отвращение. Но конечно же, не перед самими экзаменами, а перед всем, что ожидало парня впоследствии. «…и все это того не стоит» — именно так и стояло в записке. Я полагаю, Харальд скрывал такой же страх. Если уж вы спрашиваете, то скажу: просто он чувствовал, что ему не справиться с теми требованиями, которые на него обрушились, да еще при его комплексе — все оправдывать и обосновывать… Какое-то объяснение надо же найти, если уж случилось такое дело, вот оно, мое объяснение.
Она опускается на колени перед многоцветным рядом туфель, в растерянности изучает их, хватает два-три целлофановых пакета, сует в них туфли и каждый свирепо обвязывает веревками. Куда же теперь эти пакеты? Тоже, значит, в ящик с книгами.
— Так вы, стало быть, не думаете, что своим поступком он выразил протест? — спрашивает Пундт.
Лилли Флигге энергично трясет головой.
— Это не целенаправленный протест. Хотя, конечно же, таким поступком он выказывает осуждение, конечно же, он явно говорит «нет». Но одно меня и сегодня еще удивляет: последний свой поступок он против обыкновения ничем не обосновал, а так и оставил нас в неизвестности.
Тяжело вздохнув, она окидывает взглядом багаж и те вещи, которые еще ждут, чтобы их упаковали.
— Что правда, то правда, господин Пундт, упаковывать чемоданы для меня истинная пытка.
Лилли идет в кухонную нишу, к раковине, на ходу извиняясь, что не может его угостить, — у меня как раз все кончилось ко дню отъезда; но Валентин Пундт только рукой машет — ладно, ладно, не беспокойтесь — и равнодушно следит глазами, как она подставляет под струю воды руки, прерывисто при этом дыша.
— Этому я научилась у Харальда.
— Чему?
— Освежаться таким способом.
Пундту дурно? У него приступ? Его скрутила внезапная боль? Он пытается подняться из низкого кресла, едва при этом не соскальзывая на пол, удерживается на кончике сиденья, застывает на миг, скорчившись, и, наконец, поднимается.
— Если хотите, — говорит Лилли Флигге, — можно пойти в «Четвертое августа», на минуточку, заглянуть только.
Но Пундт, от которого не укрылось, с каким смущением она его приглашает, с благодарностью отказывается, понимая, что ей еще предстоит решить неотложную задачу — пол все еще завален вещами. Теперь Пундту остается сказать одно: он весьма признателен, Лилли очень помогла ему во многом разобраться, он желает ей доброго пути.
Янпетер Хеллер против цветов, скорее даже не против цветов, а против — как он это называет — «унаследованного немцами дурного обычая», приходя в гости, тыкать хозяевам в нос букетом, это же одна из самых опостылевших и дурацких традиций, если человека приглашают в дом, так от него не ждут пакостей, и гостю вовсе не следует размахивать пусть даже недорогостоящим символом миролюбия.
Но Пундт настаивает на цветах; он охотно подчиняется насилию обычаев, коль скоро они приносят людям радость, он только не может решить, какие цветы подходят Рите Зюссфельд, может быть, гвоздики?
— Гвоздики, — заявляет Хеллер, — официально зафиксированы как излюбленные цветы немецких строительных рабочих, подрядчиков и архитекторов. Кто приглашает представителей этих профессий, тому не миновать гвоздик.
— Что же тогда?
— Меня не спрашивайте, — отказывается отвечать Хеллер, — я принципиально за спаржу.
Тут Пундт решительно кивает на желтые шары хризантем, они, кажется, подходят Рите Зюссфельд, да, он считает, что подходят: стало быть, хризантемы, но зелени поменьше. Продавец не замедлил поздравить Пундта с удачным выбором.
Пундт и Хеллер находятся у Эппендорфербаум, в девять начнется «эпический» завтрак; так нам налево или направо?
Валентин Пундт, а он несет цветы, и он вручит эти цветы хозяйке от их имени, знает дорогу; в том, что им приходится проделать этот путь, есть внутренняя необходимость: они идут, не теряя чувство локтя, вдоль мокрых фасадов, их обдувают умеренные вихри, что рыщут в поисках клочков бумаги и закинутых за спину шарфов. Они идут мимо почты, где эскадрон раздраженных почтальонов выводит из подворотни желтые нагруженные велосипеды, идут мимо аптеки и мимо «Дойче банк», который при любой погоде протягивает вам свою щедрую на грошовые кредиты длань; они идут, а ветер и снег пополам с дождем хорошенько их обрабатывают — у них мокрые лица, полы их пальто развеваются; теперь они сворачивают на Ротенбаумшоссе, и тому, кто обогнал бы их сейчас в машине, могло бы показаться, что пожилой человек куда равнодушнее, даже презрительнее реагирует на погоду, чем молодой.
Без шляпы, а главное, гордо выпрямившись — не съежившись в комок, как Хеллер, — он говорит, не боясь ветра, уносящего и коверкающего его слова. Он что-то спрашивает, он хотел бы знать, бывал ли Хеллер у Риты Зюссфельд?..
— Нет, нет.
— А знаете ли вы ее сестру или ее двоюродного брата?
— Тоже нет, не знаю.
— Но о Хайно Меркеле, о нем-то вы слышали или читали? Он наверняка будет на завтраке.
— Ничего не слышал, ничего не читал.
— Но ведь о нем так много… и по радио, и в печати, и какой иллюстрированный журнал вы бы ни открыли тогда… Археолог, его знаменитая книга «…А ковчег все-таки поплыл» — история кораблестроения до потопа…
Хеллер что-то припоминает.
— А не было ли такого фильма?
— Собирались снимать, Хайно Меркеля пригласили научным консультантом. Ковчег строили по его проекту… Он определял, каких зверей… Всех, вплоть до обычной полевой мыши… Все приготовления он сам… да… и когда уже собирались начать съемки, они получили предложение.
— Предложение?
— Кинокомпания получила анонимное письмо с предложением. Кто-то хотел взять на себя охрану животных, находящихся в ковчеге… Понимаете, за плату. А они не могли себе этого… и после второго письма. И вот тогда-то…
— Что?
— На его дежурстве. Они установили дежурства. Но третьего письма не последовало. Во время его дежурства начался пожар. Загорелся ковчег с животными. Его тяжело ранило. Ковчег сгорел со всеми животными, и с тех пор…
— Что с тех пор?
— Вы сейчас с ним познакомитесь, с Хайно Меркелем.
— Так, значит, фильма не было?..
— Нет. Но сдается мне, что где-то я его… Сейчас нам направо, — говорит Пундт, вытирая слезящиеся глаза. — Вон на той стороне живет госпожа Зюссфельд.
Они наискось пересекают улицу, и на той стороне их уже ожидает, качая головой, здоровенный детина с бульдожьей челюстью, он грубо набрасывается на них, желая тотчас знать, зачем и для кого наносят на мостовую полосы пешеходных переходов, а также хочет тотчас получить удовлетворительный ответ на вопрос, что стало бы с ними, ежели бы автофургон — экспресс не сумел вовремя затормозить.
Что на это скажешь? Хеллер, которого раздражает выговор, но забавляет вопрос, указывает верзиле на острую нехватку персонала в полиции и предлагает ему обратиться в ближайшее отделение. А пройдя в низенькую калитку, уже в крошечном палисаднике, Хеллер говорит Пундту:
— Вспомогательная полиция. Нигде в мире нет такого количества вспомогательных полицейских, как у нас.
Пундт, кажется, и не слышит его слов, он уже нацелился взглядом на звонок, и тонкими пальцами срывает бумагу с букета — какие прекрасные астры, скажет сейчас Рита Зюссфельд. И все-таки он ждет, пока Хеллер не останавливается рядом с ним на ступеньках; только теперь он нажимает кнопку.
Они слышат, как к двери идет Рита Зюссфельд, она идет, выставив руки, волосы она только что вымыла, и они еще не высохли, а платье на ней болотного цвета; она, улыбаясь, открывает дверь и говорит: