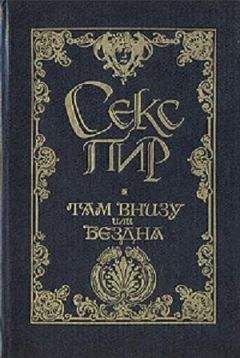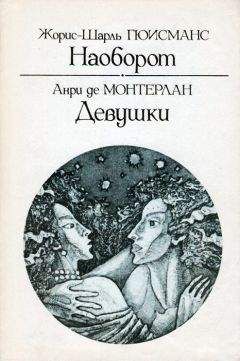Жара угнетала и подавляла его, как всех невротиков. Вспотев, дез Эссент ослаб, и анемия, холодом обычно сдерживаемая, теперь снова забирала над ним власть.
Рубашка прилипла к спине; пот солеными ручейками струился по лбу и щекам. Дез Эссент совершенно обмяк. Тут он глянул на стол, и вид мяса на тарелке вызвал у него тошноту. Он велел унести его, спросил яиц всмятку, попробовал есть, макая ломтики хлеба в яйцо, но они застревали в горле. Тошнота подступила сильней. Дез Эссент пригубил рюмку вина, но оно вызвало горечь во рту. Смахнул пот с лица: еще минуту назад он был горячим, теперь -- холодным. Чтобы перебороть тошноту, стал сосать кусочки льда, однако и это не помогло.
В полном изнеможении он приник к столу. Не хватало воздуха. Он выпрямился, но тогда съеденный хлеб подступил к горлу и не давал дышать. Никогда еще дез Эссент не чувствовал себя таким потерянным, разбитым и бессильным. В глазах у него плыло, двоилось, кружилось. Вскоре он утратил чувство расстояния. Рюмка, казалось, отодвинулась чуть ли не на милю от него. Он понял, что это галлюцинация, однако ничего с этим не мог поделать, растянулся на канапе в большой столовой, и его, словно в лодке, укачало. Тошнота сделалась нестерпимой. Дез Эссент снова поднялся и решил принять лекарство, чтобы наконец избавиться от душивших его яиц с хлебом.
Он вернулся в комнату-каюту, и ему почудилось, что он и впрямь на корабле и страдает от морской болезни. Шатаясь подошел он к шкафчику, осмотрел свой "губной орган", но, не воспользовавшись им, снял с верхней полки бутылку бенедиктина, которую хранил из-за ее формы, настраивавшей его на мелодию томную и смутно-мистическую.
Теперь, однако, никакой мелодии не возникло. Дез Эссент бросил безжизненный взгляд на пузатую темно-зеленую бутылочку. А ведь прежде она напоминала ему нечто средневековое своим монастырским брюшком; пергаментным кагаошоном; красным восковым гербом с тремя серебряными митрами на синем поле; горлышком, запечатанным, как папская булла, свинцовой печатью, а также пожелтевшей от времени этикеткой, которая по-латински звучно гласила: "Liquor Monachorum Benedictinorum Abbatiae Fiscanensis".
Под этим почти что монашеским одеянием с крестом и церковными инициалами Д. О. М., подобно старинной хартии в пергаменте и печатях, дремал вкуснейший ликер шафранного цвета. От него исходило благоухание иссопа и дягиля, слегка приправленное йодом, бромом и мятной сладостью морских водорослей.
С виду букет этот был чистым, девственным, невинным, однако обжигал небо спиртовым пламенем, а легкая капля порочности, смешиваясь с общей атмосферой неповрежденности и благочестия, томила обоняние.
Это-то лицемерие, возникающее из-за сильного противоречия между видимостью и сущностью, между древней литургической формой сосуда и его современным, во многом дамским, содержанием, и настраивало некогда дез Эссента на мечтательный лад. Он заодно представлял себе тех, кто изготовил этот напиток, -- бенедиктинцев из аббатства в местечке Фекан. Оно принадлежало к конгрегации св. Мавра, которая прославилась своими трудами по богословию. Его монахи хотя и называли себя бенедиктинцами, но не соблюдали устава ни белого монашества из Цистерциума, ни черного из Клюни. И дез Эссент не мог не внушить себе, что они, точно в средние века, выращивают лекарственные травы, следят за бульканьем в ретортах и получают в своих колбах чудодейственные отвары и эликсиры.
Дез Эссент проглотил несколько капель ликера и на некоторое время почувствовал себя лучше, но вскоре изжога, подогретая выпитым, снова напомнила о себе. Он отшвырнул салфетку, вернулся в кабинет и стал бродить взад-вперед. Ему казалось, что он находится под стеклянным колпаком, откуда постепенно выкачивают воздух. В голове у него возникла боль и волной прошла по всему телу. Он собрался с силами и, не выдержав всего этого, отправился, наверное, впервые с тех пор, как обосновался в Фонтенее, в сад. Найдя тенистый уголок, он уселся на траву под деревом и его невидящий взгляд упал на прямоугольные ряды грядок с овощами, посаженные его прислугой. Лишь через час дез Эссент увидел их с полной ясностью -- перед глазами у него стоял зеленоватый туман, сквозь который проступали неясные и расплывчатые образы.
Наконец, придя в себя, он увидал на грядках лук и капусту. Чуть дальше зеленел латук, еще дальше, вдоль изгороди, подчеркивая тяжесть воздуха, недвижно белели лилии.
Дез Эссент улыбнулся, потому что внезапно вспомнил странное сравнение старика Никандра, утверждавшего, что своей формой пестик лилии похож на ослиные гениталии. И тут же ему пришел на память фрагмент из Альбера Великого, в котором этот праведник своеобразно описывает, как с помощью латука проверить непорочность девицы.
Эта мысль слегка развеселила дез Эссента. Он не без любопытства осмотрел сад, цветы, увядшие от жары, обратил внимание на землю, дымившуюся в раскаленном, словно насыщенном пороховой гарью, воздухе. Потом, за изгородью, отделявшей сад от дороги в лес, он заметил детей, возившихся на солнцепеке.
Он всмотрелся в них, выделил самого маленького и грязного. Волосы у мальчугана торчали, будто бурые водоросли с песком, под носом висели две зеленые капли, рот был отвратителен, в присохших крошках: малый жевал хлеб с белым домашним сыром и крошеным зеленым луком.
Дез Эссент принюхался -- и вдруг дико, чудовищно захотел есть. От мерзкого бутерброда у него потекли слюнки. Он решил, что на сей раз его желудок справится с подобной гадостью, ему даже показалось, что это будет очень вкусно.
Он вскочил, бросился на кухню, велел пойти в деревню, купить булку, творожный сыр, лук и приготовить ему бутерброд -- такой же, какой уплетал мальчишка. Затем он вернулся в сад под свое дерево.
Теперь мальчишки дрались. Ударами рук и ног они избивали тех, кто был слабее и валялся на земле, рыдая от ссадин.
Зрелище драки оживило дез Эссента и отвлекло от мыслей о своей болезни. Глядя на ожесточение и злобу дерущихся, он сказал себе, что так же зла и безобразна борьба за существование. И хотя эти дети черни были ему отвратительны, он все же смотрел на них с интересом и известным сочувствием, полагая, что для них лучше было бы и вовсе не родиться.
А ведь и в самом деле, подзатыльники и детские недуги -- сыпь, краснуха, жар, колики -- ждали их в младенчестве; побои и тупая работа -годам к тринадцати; женская ложь, болезни, измены -- в зрелости, агония долгой кончины в ночлежках и богадельнях -- в старости.
Словом, всех их ожидало одно и то же будущее, которое никто из людей здравомыслящих не пожелал бы себе. Богатые, правда, жили по-иному, но и им были известны сходные страсти, тревоги, труды и болезни. Наслаждение, что от выпивки, что от чтения, что от любовных излишеств, часто мстило за себя. Существовала даже некая справедливость, некая всеуравнивающая сила страдания: богачи были более болезненными и хрупкими, чем бедняки, чаще их страдали физически.
"Что за безумие -- рожать детей! -- думал дез Эссент. -- И до чего непоследовательно духовенство: приносит обет безбрачия, и вместе с тем канонизирует Винсент де Поля за то, что тот обрек невинных младенцев на ни чем не оправданные муки!"
Ведь именно он своими чудовищными мерами на долгие годы отсрочил кончину существ, которые были не в состоянии ни мыслить, ни выражать свои чувства, но со временем почти обрели разум, во всяком случае, реагировали на боль, узнали, что существует будущее, и со страхом ждали неведомой им смерти, а иногда даже звали ее, ненавидя и проклиная жизнь, навязанную им по абсурдному церковному установлению!
Старик де Поль умер, идеи его процветали. Брошенных детей, вместо того чтобы дать им тихо, неосознанно для них самих умереть, подбирали, спасали, тогда как их спасенная жизнь с каждым днем становилась все суровей и мучительней! Прибавим к этому, что во имя, видите ли, свободы и прогресса общество нашло способ сделать жалкое человеческое существование совсем невыносимым, то есть вытащило человека из дома, вырядило шутом гороховым, вложило в руки оружие и обратило в рабство -- хотя из сострадания давно избавило от рабства негров, -- и все для того, чтобы убивать и не страшиться виселицы, в отличие от заурядных убийц, -- одиночек, не носящих мундира и выбирающих оружие поскромнее и потише.
Что за дикая эпоха, размышлял дез Эсеент: на благо человека стремится усовершенствовать анестезирующие средства для облегчения физических страданий, но параллельно с этим делает все возможное для усиления страданий моральных!
Уж если жалости ради и запрещать деторождение, то именно сейчас! Но до сих пор так никто и не отменил жестоких и нелепых законов, введенных в действие всякими Порталисами и Омэ!
Правосудие считало вполне допустимым всевозможные трюки с зачатием. В любом -- и даже весьма состоятельном -- семействе нежелательный плод вытравляли или прибегали к общедоступным аптечным средствам -- и никому в голову не приходило это порицать. Правда, не подействуй эти средства и хитрости, не удайся обман -- тогда наступал черед мер куда более решительных. Но увы! На это не хватило бы всех тюрем и острогов. А призывали бы к расправе над виноватыми те, кто сам прилежно мошенничает на супружеском ложе, дабы не производить на свет потомства!