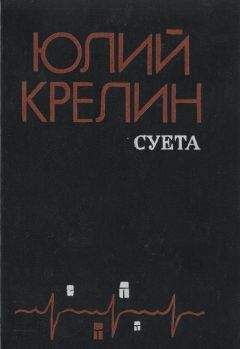Любопытство замедляет бег по жизни, сбрасывает шоры с глаз, освобождая боковое зрение, и заставляет оглянуться. Оживает разброс зрения — мир открывается и с боку. Всегда именно в детстве чаще смотрят по сторонам. И слава Богу, ибо неизвестно, что их ждет у цели. То остановятся поглазеть на уборку снега или поливающую машину, то на ремонт или разрушение дома, то на шагающих солдат — мир познают... если цель не мешает. В юности, в зрелости любопытство постепенно уменьшается и где-то к старости вновь обретается интерес к миру... к уходящему миру. Вернее у уходящего из мира. Запоздалое любопытство. Да поздно...
Но наши герои еще полудети.
* * *
Итак, вперед, вперед — и не разговаривают, не держатся еще друг за друга, может, еще и не ощущают друг друга... Полудети.
Но что-то их останавливает. Любопытство! Услышали музыку, песню. Да не электронный звук магнитофона, а живой человеческий голос, живую струну гитары. Пусть гитара стала стандартом, но живая струна... без электрических наполнителей, дополнительности! Шура остановилась и стала оглядываться.
Слава Богу! Есть еще женская душа, более доступная простым призывам естества, с большей легкостью отбрасывающая эфемерные целеустремленности, — трепетная женская душа, охранительница человечности, которая именно потому, наверное, всё больше и чаще, особенно в ранней юности, ведет за собою мужские души, становится лидером. К сожалению, чаще в юности только.
Остановился следом и Гаврик.
— Ты чего?
— Слышишь? Где это поют?
— Где-то рядом. Пошли.
— Подожди. Хорошо поет. Да подожди.
— Чего ждать-то? Пойдем. Кирка ждет.
— Да постой! Никуда не денется... Обобьется твой Кирилл...
И женщина повела друга на звук песни.
Вот оно! Еще каких-то два года назад была бы немыслима такая сцена, невозможны такие слова. Но сегодня подобные куплеты — общее место, и на крамольный текст наши полудети внимания не обратили. Но голос... манера...
Уставившись в стену дома, почти вплотную к ней, нарочито и решительно отвернувшись от улицы, от людей, от всего мира, упершись всем своим существованием в глухую стену без окон, стоял парень годков эдак около двадцати и категорически, наступательно (как нынче пишут в газетах — по-юношески “бескомпромиссно”) отрывал от гитары и голоса звуки и слова и швырял их в препятствие перед собою. И от стены отскакивало в толпу, собравшуюся за его спиной. Он знать толпу не хотел, ему плевать было на реакцию толпы, он был в оппозиции к толпе. На земле, за спиной певца, лежала шапка, и собравшиеся молча, будто извиняясь, будто виноваты за Бог знает какие прегрешения всех нас, подходили и клали деньги. Не кидали — клали, нагибались и клали. Ему, певцу, до этого дела не было. Он пел стене, миру. А вы, если хотите, пользуйтесь подарком стены...
Остановились попользоваться этим подарком и наши герои. На какие-то минуты опять нет цели, и вновь открылись глаза и уши. Восстановлена связь с миром.
Парень допел. Повернулся и, по-прежнему не глядя на слушателей и зрителей, поднял шапку, сгреб, что в ней было, сунул в карман и, продолжая напоказ пренебрегать обществом, крупно, пожалуй даже гневно зашагал прочь, закинув гитару на шнурке за спину, а кепку надвинув на лоб по самые брови.
Шура восхищенно провожала глазами уходящую реальность — то ведь был не мираж каких-то, пусть пока еще и общих с Гавриком целей. Могла бы, наверное, и пойти за ним следом, словно лемминг в толпе таких же очарованных волшебной дудочкой музыканта грызунов. Так ведь порой в молодости и уходят. Но то ли век наш слишком прагматичен, то ли Щура была недостаточно романтична, то ли парень не допел до ее нутряных, способных ответить, струн, — только она быстро отошла от прельстительных чар пристенного Ланселота и медленно двинулась по изначальному маршруту. Однако с Гавриком еще не разговаривала. Молча пошла, а он, почувствовав, видно, опасность момента, тоже двинулся за нею, не открывая рта для пустых звуков. И правильно: то, что нашло, должно пройти само. Время само всё расставит. Главное, не обогнать время.
На этот раз время понадобилось недолгое, хотя, вообще говоря, времени у них впереди было еще очень много. Но ведь в юности его почему-то торопят. Это у зрелых да старых времени остается всё меньше и меньше, и они его пытаются задержать. Но несется время так, что оторопь берет, а дети торопят — время всё равно катится медленно...
* * *
Кирилл их встретил справедливыми упреками:
— Сказали, через десять минут, а сами...
— Нам мужик попался. Недалеко от тебя. Хорошо...
— Да, что там хорошо!.. — ажитированно перебила Шура. — Знаешь! Парень! Так стоит! Ни на кого не глядит! Бьет по гитаре, в стену, в стену... До нас и дела нет... Поет! Смелый такой! Ну!..
— Ладно вам! Мужик поет. Ну пошли? Мне дома наговорили: чтоб не забыли про весну, про занятия и экзамены...
— А я удрал. Мои не успели.
Ребята дружно посмеялись над бедами родителей и тронулись к следующей цели.
Шура шла чуть впереди, а следом оба верных ее рыцаря. Ох, это прекрасное юношеское девичье лидерство! Она ими командует, помыкает, клички дает, да и жизненные их концепции создает порой. Чаще девичье влияние на юношей положительно и действует облагораживающе. Точнее, наверное, девичье влияние — катализатор существования и усиливает, так сказать, требования среды обитания. Дворовая девчонка усиливает влияние двора. В подростках интеллигентной среды присущие этой среде качества тоже стимулируются вначале девочками. Интеллигентные девочки своим стремлением к раздумью, даже порой поверхностным, показным, вычитанным из книжек, а то и неискренним, всё же побуждают своих шлейфоносцев к чтению, музыке и искусству. Наверное, это все-таки накладывается как-то на тот генетический рисунок, что в неизвестных недрах нашей натуры записывается природой или Господом Богом...
Они шли, и вскоре между ними разгорелся спор о преимуществах разных систем “тачек” — так они свысока и по-домашнему называли компьютеры. Тут уж все три участника проявили завидную и равную эрудицию и такой при этом подняли ор, что непосвященный прохожий мог бы заподозрить ссору, предвещающую бой. Да и не понял бы сверстник автора даже и половины тех слов, что разлетались в стороны от буйных спорщиков. То были не только новые термины, но и новый жаргон, и новое отношение к обсуждаемому неживому предмету: для спорящих, похоже, “тачки” были существами вполне как раз одушевленными. Когда они сыпали терминами компьютерных языков или какими-то другими, тоже вполне, впрочем, приличными, не жаргонными словами из их новой рождающейся культуры, пожилой неуч (современного уровня) вполне мог бы принять эти звуки и за эдакий изощренный новоязный мат, придуманный странной молодежью...
Словесная перепалка остановила их продвижение по улице, а сам их спор был, в свою очередь, остановлен толпой, втекавшей в улицу из соседней.
Не знаю, можно ли называть организованное движение толпой? Шли колонной, шли в определенном направлении, несли лозунги — строго говоря, то была не толпа, то была демонстрация. Собственно, многое зависит от лиц, составляющих всякое людское скопление. Иной раз взглянешь на лица, на мимику их, отношение к соседям, жесты... — толпа. Толпа! да и страшная... А иной раз всё не так. И лица, и улыбки, старание не очень помешать соседу, держаться подальше от впереди идущего, чтоб не часто наступать на ноги передних... И нет чувства опасности при взгляде на такое скопище людей. Впрочем, может, всё и не так. Это просто ощущения автора.
Демонстранты шли по середине улицы. Лозунги были привычные: и о шестой статье, и о репрессиях, и о президенте, и о демократии, и о будущем вообще. И всё же общая захваченность какой-то целью, экзальтированное единодушие в лицах, общая возбужденность делали это собрание людей толпой. Толпой, которая подхватывает, вбирает в себя, увлекает за собою, проявляя ту колдовскую мистическую силу, которая истинного Бога оставляет в небрежении и подавляет, стирает личные черты каждого, кто в нее попал, — даже если эта толпа во славу Бога. Всё равно в ней всегда таится опасность бесовства.
Колдовская сила толпы легко завладела открытыми всем ветрам душами наших героев и, коварно возбудив их любопытство, тут же всосала их в общий строй. Они охотно и весело присоединились к демонстрантам и пошли в общем людском потоке.
В колонне было около пятисот человек. По масштабам города — ничтожное количество. Радостно шумя, толпа довольно быстро продвинулась до конца улицы, потом наткнулась на цепь людей в форме с прозрачными щитами и зачехленными палками.
Над демонстрантами пронесся тревожный гул: омон, омон, омоновцы. Голова колонны свернула в улочку, где не было препятствия, а оттуда — на площадь, вернее — площадку, где в стороне от основных магистралей пересекалось несколько небольших улочек и переулков. Люди стали растекаться по пустому пространству, окружая передних, создавая из головной части колонны как бы центр сообщества. Люди не толкались, не давили друг друга, даже извинялись, задев соседа, что было не только не характерно для привычной нашей толпы, но по ситуации в какой-то мере и бессмысленно. Вообще поведение демонстрантов изменилось. Выражение лиц было чем-то средним между посетителями консерваторий и стадионов.