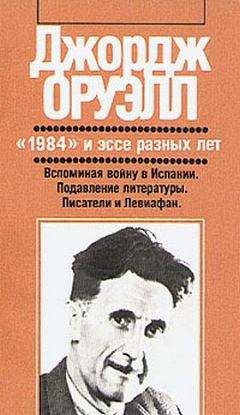искусственный интеллект, чипирование людей, цифровые деньги и прочие современные «штучки», введенные под видом «вашего же блага», не только закабалят каждого, но превратят мир в реальную антиутопию, которая будет похлеще оруэлловской Океании.
Так что – здравствуйте, мистер Оруэлл! Приехали!..
Книга, которую вы держите в руках, издается в год 120-летия со дня рождения Оруэлла. В ней собраны четыре документальные повести писателя, четыре «хроники честной автобиографии». Так озаглавила их знаток его творчества и переводчица этих (и большинства его художественных произведений) Вера Домитеева. И это действительно и хроника жизни Оруэлла, и, одновременно, – честная оценка ее.
Открывает книгу повесть «Славно, славно мы резвились» («Such, Such were the Joys»), которая была написана в 1947-м, за три года до смерти писателя, а опубликована в Англии лишь через 20 лет – в 1968-м, когда скончались и автор, и многие из «героев» его произведения.
Он начал писать ее в 1939 году – и потому, что за год до этого книгу об их общей подготовительной школе Св. Киприана («Враги обещаний») написал один из его друзей. В ней соученик и многолетний друг Оруэлла утверждал: школа «давала неплохое образование». Это-то и возмутило Оруэлла. Какое образование, когда они учились «ради оценки», «для показухи», когда их обучали не столько знаниям, сколько «хитрым трюкам», которые должны были «впечатлить экспертов»; ведь практически не было ни математики, ни географии, а «интерес к естественным наукам вообще презирался»?
Но, изложив свой взгляд на школу, Оруэлл отложил публикацию. Понял: получилось всё в «слишком страшном свете». В печать ее отдаст его вторая жена, Соня Браунелл, уже после смерти писателя, да и то – только в США и изменив название школы, место ее и имена действующих лиц.
Издевательства, почти пытки в подготовительной школе Англии начала прошлого столетия, конечно, не могли понравиться британцам второй половины века. Бывшие соученики Оруэлла считали описанные им кошмары сильным преувеличением, но Оруэлл не только с детства гордился умением «смотреть в глаза неприятным фактам», но и признавался позже, что именно в этой школе, где он провел пять лет, начали копиться материалы для самой страшной книги его – романа «1984».
«Оруэлл говорил мне, – вспомнит один из друзей его, – что страдания бедного и неудачливого мальчика в приготовительной школе – может быть, единственная в Англии аналогия беспомощности человека перед тоталитарной властью, и что он перенес в фантастический “Лондон 1984” звуки, запахи и цвета своего школьного детства».
Ныне можно сказать шире: школа, внушившая ему «чувство неполноценности и страх нарушить таинственные жуткие законы» – возможно, главный исток всего последующего творчества, главной его темы.
С такими «законами» и «страхами» ему предстояло разбираться до конца жизни. И прежде всего – в тот странный и трудный период своей биографии, когда после возвращения из Бирмы он, сначала в силу обстоятельств (крайней бедности своей), а потом и ради «прямого исследования жизни изгоев общества» – нищих, бездомных, проституток и бандитов! – сознательно «опустился на дно жизни», пошел в ночлежки, «работные дома», даже, как помните, нарочно сел в тюрьму.
Этому периоду посвящена документальная повесть «Фунты лиха в Париже и Лондоне» («Down and Out in Paris and London»), опубликованная в 1933 году и ставшая хронологически первой книгой писателя, на которой впервые появилось его новое имя – Джордж Оруэлл.
Сначала тонкая рукопись называлась «Дневником посудомоечной машины», где рассказывалось о его «рабском труде» посудомоя в парижских ресторанах, потом – «Дневником поваренка». Текст этот все издатели бесцеремонно отклонили, но, по счастью, в одном из издательств ему предложили расширить этот рассказ.
И тогда он, по примеру давно прочитанной книги Дж. Лондона «Люди бездны», отправился почти на три года под мосты Лондона и в ночлежки для бездомных. В этом он видел как бы «искупление» за пятилетнюю службу в полиции Бирмы, где с болью и сочувствием наблюдал жизнь действительных рабов британских колонизаторов: их унижения, бесправие, подневольный труд, казни и расстрелы… Уже тогда он осознавал, что ненависть к угнетению захватила все его чувства и переживания. Переводчица Вера Домитеева в одном из предисловий отметила, что этим поступком он «осуществил исконный русский идеал “жить по совести”».
«Жизненная неудача, – напишет он позднее, – представлялась мне тогда единственной добродетелью. Малейший намек на погоню за успехом, даже за таким успехом в жизни, как годовой доход в несколько сот фунтов, казался мне морально отвратительным, чем-то вроде сутенерства…
Я много размышлял на эту тему, – признаётся он, – планировал, как всё продам, раздам, изменю имя – и начну новое существование совсем без денег, лишь с костюмом из обносков… И доля вины с меня – спадет…»
Его решение «уйти в низы» и описать жизнь нищих [1] стало знаковым камертоном ко всему дальнейшему творчеству. Уже тогда, в первой же книге, он понял для себя: всё надо познать из первых рук, во всём – убедиться самому, всё лично попробовать на вкус, на цвет, на зуб, на смысл…
Но, кроме того, этим шагом он впервые заявил и о своих политических пристрастиях – о том, что при любом раскладе он будет на стороне «униженных и оскорбленных».
Но далеко не все готовы были встать – рядом с ним: описанную им «правду жизни» («я просто рассказал, что есть мир, он совсем рядом, и он ждет вас, если вы вдруг окажетесь без денег») никто не хотел печатать. Так, известный поэт и издатель Т.С.Элиот, прочитав рукопись, написал автору: «Мы нашли это очень интересным, но, к сожалению, едва ли возможным для публикации». И лишь Виктор Голланц, издатель откровенно левых взглядов, рискнул и выпустил книгу. Не сделай он этого – мы, возможно, так и не узнали бы писателя, который в будущем перевернет весь мир.
А что же псевдоним его? Считалось, что он взял его лишь для того, чтобы родители не узнали в «исследователе социального дна» своего «благовоспитанного сына». На деле же всё было, конечно, не совсем так. В семье если и не знали в подробностях про отдельные его «панельные подвиги», то о главном, несомненно, догадывались.
Нет, просто после многих переделок рукописи и отказов печатать ее Эрик Блэр очень сомневался в себе – и боялся, что писательский дебют его с треском провалится. Биограф Майкл Шелден отметит: он «не смог бы вынести своего имени на обложке, если бы книга не принесла успеха, он слишком привык считать себя неудачником. С помощью псевдонима он словно хотел избежать ответственности за дальнейшую судьбу книги». На помощь пришла его же «бездна»: ведь в ночлежках и работных домах он давно