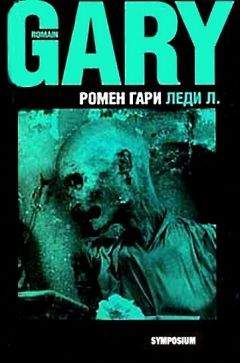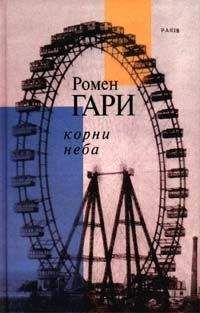В десять часов начало сказываться действие шампанского - это чувствовалось по возбужденным голосам и взрывам смеха; арлекины, волхвы и восточные принцы болтали о пустяках с Шехерезадами, пастушками и Британиями у трех длинных стоек, метров по двадцать каждая, за сервировкой которых следил сам месье Фортнум, в то время как цыганский оркестр, с боем похищенный из кафе "Ройяль", наигрывал степные мелодии, которые возбуждают аппетит и великолепно гармонируют с закусками. Леди Л. расхаживала среди гостей, возбужденная и счастливая, едва прислушиваясь к тому, что ей говорят; ее взгляд скользил по маскам, фальшивым носам, маскарадным костюмам: он должен был быть уже здесь. Она искала его среди конкистадоров, Дон-Жуанов, захмелевших Великих Инквизиторов и золотобородых Фараонов. Она еще немного на него злилась - ведь он поступил с ней так жестоко, лишив своей ласки на целых восемь лет, - и наверняка он тоже злится и снова, вероятно, захочет преподать ей урок, отчитать ее - он так хорошо умел это делать, - но она была уверена, что все забудется после первого же поцелуя. Она обошла зеленую гостиную с попугаями, где сотни красных, зеленых, синих, желтых птиц порхали по стенам, забираясь под самый потолок, в то время как маленькие обезьянки с черными мордашками резвились в приветливых итальянских джунглях и, казалось, были готовы прыгнуть на люстры, прически, декольте, прошла в большой танцевальный зал, где только что закружился веселыми вихрями на плитах из черного и белого мрамора первый вальс, она блуждала с веером в руке, как одна из тех механических кукол, что вращаются по кругу под стеклянным колпаком своей музыкальной шкатулки, и вдруг увидела его: он стоял в проеме двери-окна, выходившего на большую террасу, между францисканским монахом с лицом испуганного младенца и неподвижным жокеем со скошенной набок головой. Скачущая фарандола персонажей commedia dell'arte, как бы сошедшая с полотна Тьеполо, на мгновение разделила ее с ним залпом конфетти, а затем взгляды их снова встретились, и она, вытянув руку, приветливо улыбаясь, двинулась к маркизу в шелковом платье и белом парике, который уже галантно кланялся ей. Костюм ему был в самый раз: она хорошо помнила его тело.
- Арман Дени в придворном платье, - сказала Леди Л. - Это выглядело уже как достижение. Фотографов тогда еще, к сожалению, не было. Я не сдержалась и, пока мы танцевали, нежно погладила его кончиками пальцев по затылку, и мне думается, ему вряд ли пришлось по вкусу мое фривольное обращение с мочкой его уха, когда я легонько прикасалась к ней губами: знаете, он вовсе не был создан для галантных игр. Но я испытывала непреодолимое желание наказать его, я бы все отдала, чтобы только вынудить его выйти за пределы своей вселенной и заставить жить как на картине Фрагонара. Он не изменился, был по-прежнему так же красив, особенно когда возмущение, злоба, неистовая страсть придавали его взгляду дикую необузданность, которая ему так шла. Он и в самом деле был чересчур хорошенький. Я заметила также, что он выпил: раньше такого с ним никогда не случалось. Что ж, все-таки восемь лет в тюрьме, у него было достаточно времени, чтобы поразмыслить над человеческой природой, быть может, она казалась ему не столь прекрасной, не столь привлекательной теперь, после того как показала, на что она бывает иногда способна... В голосе появились хриплые, сиповатые нотки, а в глазах - выражение усталости, негодования, жестокости, по-другому не скажешь, своего рода горячность, протест. Словом, я была уже почти готова вообразить, как лет через десять - пятнадцать он будет сидеть с бутылкой красного вина под мостом Сены, забытый и презираемый "ею" - важной дамой, которую он так любил, своею далекой принцессой, нашедшей среди новых поклонников новых возлюбленных, которых она заставит страдать, - и останется от анархиста один пшик. Вы не можете представить себе, дорогой Перси, что я чувствовала. Это выше вашего понимания. Боюсь, что вы не экстремист, терроризм для вас - это что-то, не так ли, что происходит в Испании или на Сицилии, всего факт политических страстей... Вам этого не понять. Желание растерзать его, растерзать саму себя, принадлежать ему целиком, без остатка, полностью подчиниться...
Она замолчала. Тщательно избегая смотреть на нее, Поэт-Лауреат уставился в невидимую точку пространства. Один Бог знает, какую нежность, какое сожаление мог он увидеть на этом лице, которое, как ему думалось, он все-таки знал достаточно хорошо и каждая черточка которого своей, казалось, неподвластной бурному натиску времени молодостью и чистотой словно бросала вызов самим законам природы! Глаза у Леди Л. были закрыты. Она улыбалась. Она пойдет в своем отрицании до конца, чтобы еще больше его разозлить, чтобы вновь высечь молнию из этого взгляда, услышать жалобную интонацию в голосе, чтобы еще глубже вонзить свои когти в его плоть и кровь.
- Примите мои комплименты, мадам. В предательстве вы восхитительны...
Они образовывали такую прелестную пару, что шуты, феи, Нельсоны, Бонапарты и Клеопатры, в вихре вальса кружившиеся вокруг них на напоминавшем шахматную доску мраморном полу, замедляли движение, чтобы полюбоваться герцогиней Аль-бои, радостно улыбающейся в объятиях одного из придворных Людовика XV в наряде из белого шелка; и хоть никто его не знал, каждый жест его носил следы той природной утонченности, которую сразу замечают люди благородного происхождения, а его мужественная красота возбуждала любопытство и раздражение мужчин.
- О! Арман, Арман...
- Ладно, ладно. На нас смотрят. Будем говорить друг другу приятные вещи.
- Послушай...
- Какая невинность во взгляде, какой удивленный вид... Отлично сыграно. Знатная дама, чего уж там. Настоящая дворянка: донесла на революционеров, выдала полиции, как и полагается. Ложь, лицемерие, предательство. Спору нет, светская женщина.
- Арман...
- Да, Арман. Бордель вовсе не обязательно делает женщину шлюхой, но если прибавить немного роскоши, красоты, шика, то ею можно стать очень быстро, не так ли? И начинаешь продавать себя, продавать друзей...
- Это не я.
Что за наслаждение было видеть, как он лезет из кожи вон, слышать, как он ворчит сквозь зубы, чувствовать это негодование, почти отчаяние, которое так ему шло. Она нежно сжала его руку:
- Ты красив, знаешь...
- Мести не предвидится, успокойся. Тебе нечего бояться, ты нам еще нужна. К тому же месть - это, на мой вкус, слишком личное удовольствие, слишком эгоистичное. Я не в счет, ты не в счет, мы преходящи, мимолетны, как этот вальс... Гораздо важнее то, что повсюду торжествуют наши враги, что наши типографии закрыты, наши активисты разогнаны и лишены средств к существованию, и это в то время, когда правители и торговцы пушками готовятся вести народы на бойню, а Социалистический Интернационал в белых перчатках своими обещаниями сладкой жизни для послушного пролетариата выбивает у нас почву из-под ног... Нам нужно много денег. Теперь, когда ты стала настоящей шлюхой, ты действительно будешь нам полезна...
- Глендейл следил за каждым твоим шагом, он был в курсе, это он...
- Хватит, я сказал. Когда ты раздевалась, чтобы обслужить клиента, ты не приносила большого вреда... Люди приносят вред вовсе не тем, что снимают трусы. Это буржуазная мораль. Нет, для настоящих мерзостей люди одеваются. Натягивают даже мундиры, сюртуки. Никто никогда не приносил большого вреда с голой задницей...
- Арман...
- Да, Арман. Давай. Говори. Выкладывай уж все до конца. "Арман, я тебя люблю". Знакомый мотивчик, где его только не играли. "Кармен" Бизе, великая опера, вот куда ходит добропорядочное общество, чтобы опьяняться ее звонкой пустотой, чтобы под ее косметикой скрыть свое уродство... "Меня не любишь, но люблю я, так берегись любви моей..." Знаем. Видали. Уразумели. Восемь лет в тюрьме не прошли зря...
- Это Глендейл тебя...
- Лги. Не стесняйся. Потому что скоро тебе придется лгать так, как ты никогда прежде не лгала, и это еще мягко сказано... Тебе предстоит поистине большая игра. Останешься там, где ты есть, среди своих Ротшильдов и Ульбенкянов, своих герцогов и милордов, но работать будешь на нас, будешь служить забытым всеми массам, человечеству, невидимому с тех вершин, на которые ты взобралась...
Он не изменился. "Она" оставалась в его глазах по-прежнему такой же красивой. Он любил "ее", как и прежде. "Она" могла делать все что угодно, он всегда найдет ей оправдание и алиби. Ее преступления, ее гнусности, ее подлые поступки и ее жестокости он относил за счет класса, среды, общества. Человечество было вне подозрений. Очень важная дама с престижным именем, которую ничто не могло ни задеть, ни запятнать. Но его раскатистый голос был по-прежнему так приятен, а слова значили так мало...
- Арман...
Шампанское, вальс, смятение - все это кружило ей голову. Леди Л. сама уже не знала, на каком она свете. Настоящей пыткой для нее было держать себя в руках, не прижиматься к нему, не позволять своему взгляду любовно скользить по знакомым чертам и счастливо улыбаться. Неужели она и есть та самая Леди Л., которой восхищались, которую уважали, лелеяли и втайне любили по меньшей мере пятеро мужчин в этом танцевальном зале? Или же она еще была Анеттой, готовой пойти на любой риск и совершить любое безумство, чтобы только вырвать у жизни еще один пленительный миг преступного счастья?