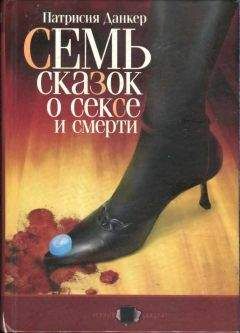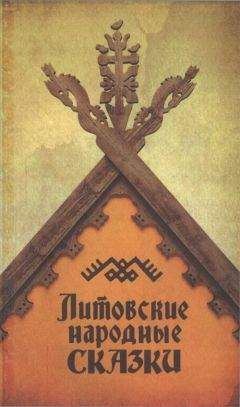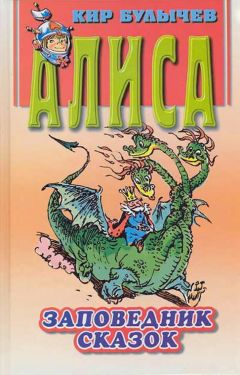Джордж теперь не тот, что был прежде. Ему уже пятьдесят, и у него отросло аккуратное круглое брюшко. Правда, все волосы остались при нем. Я думала, мальчик в темноте не разглядел Джорджа как следует, но оказалось, что встреча произошла при ярком солнечном свете и свежем ветре, на скамейке напротив индийского ресторана, прилепившегося на краешке пирса. Так что мальчик видел пузо Джорджа во всей красе. Бедный Джордж, кажется, еще вчера он играл молодого Генриха V. Теперь блистает в роли Фальстафа.
А ведь мальчик даже не попросил денег. Они сговорились на бесплатном ужине и двух билетах на “Пиратов”. Джордж был уверен, что мальчик явится со своим бойфрендом, и вечер закончится мучительным унижением и приступом язвы со рвотой. Но мальчик не привел с собой дружка. Он пришел с мамой. Джордж водил их в буфет в антракте, где произвел сенсацию, размахивая шпагой и выкрикивая “Посторонись!”. Но потом ему пришлось катиться обратно на сцену на второе действие, а вся труппа “Первоцвета” скандировала: “Как звать девочку, Джордж? Как звать девочку?” И они вовсе не имели в виду маму.
Ну да ладно, оставим Джорджа в покое. Наступает лето, и я отправляюсь во Францию. Многие годы я снимала домик через агентство, на целых девять недель, с хорошими скидками. Но я устала от треснувших стаканов и разномастных тарелок, от капризных газовых плит и мышей в буфете. И вот после одной особенно ужасной ночи на диванном валике, из которого лезли жуткого вида отрепья, тут же рассыпавшиеся в пыль, я направилась в риэлторское агентство ближайшего городка и, не сходя с места, купила крошечный коттедж за восемнадцать тысяч фунтов. Это был один из их invendables — иначе говоря, мертвый груз, — и они были счастливы сбыть его с рук.
Существует множество причин, по которым дом может плохо продаваться, помимо таких эндемических катастроф, как плесень, термиты или прокладка автотрассы. Дом может быть слишком далеко от дороги, или слишком близко к ней, в нем может быть слишком большой сад или слишком маленькая терраса, вид на реку может оказаться слишком мрачным. Я всегда считала, что на любой дом в конце концов найдется покупатель, но, боюсь, этот мне не продать. Если он для кого и представляет интерес, то разве что для тех самых соседей, но трудно представить себе, чтобы жилище с единственной спальней и убогим стенным шкафчиком могло бы послужить хотя бы флигелем для их неисчислимых полчищ. Когда я впервые увидала свою будущую собственность, она являла собой прелестную картину — коттедж затаился в углу романтичной средневековой площади, розовые кусты обвивали дверной проем. Прекрасно сохранившийся узкий кирпичный фасад, никакого сквозного проезда, два ряда стройных лаймовых деревьев и мраморный фонтан, упомянутый в путеводителе. Стояло воскресное утро, и тишину нарушали лишь церковные колокола. Дело было в феврале, и воздух был чист и пронзителен. Я сказала себе, что если дом так понравился мне зимой, насколько же прелестнее он окажется летом, когда я буду здесь жить. Для британских домов это золотое правило, верно? Не то на юге Франции. В летние месяцы в вашем уединенном убежище расположится практически все население Голландии, четыре миллиона немцев и более половины парижан.
Мое пристанище неловко приткнулось под мышкой у соседского дома. Два строения, несомненно, были когда-то единым целым. Отпочковавшаяся канализационная система сохранила живейшую связь с истоками: когда бы ни спускалась вода в соседском туалете (а происходит это примерно раз в двадцать секунд) бурный поток низвергается непосредственно по стене моей гостиной. Кажется, что сидишь на самом краешке унитаза, и тебя вот-вот смоет мощной волной. Я буквально живу с соседями, я присутствую при самых интимных их отправлениях. Я слышу, как они моются, пукают, зевают, ворочаются в постели, тушат свет. Я слышу каждое их слово.
Впрочем, в доме они проводят не слишком много времени. Ведь это юг — здесь все живут на свежем воздухе. Средневековая площадь — общая, и теоретически каждый из нас имеет право установить с грохотом свой стул и стол и хлебать аперитив до тех пор, пока не сотрутся различия между черными маслинами и пряными мексиканскими чипсами. На деле благословенная тень вечно захвачена узурпаторами: там сидят соседи.
Они сидят там десятилетиями. Вполне возможно, их предки сидели там еще в средневековье. Это их тень. Они не отдадут ни пяди. Мне удалось их слегка взбудоражить, когда однажды утром, в самом начале, я прошествовала по площади с шезлонгом и книгой. Я только улыбалась и кивала приветливо, всячески давая понять, что не представляю никакой опасности. Que la fete commence![72] И праздник начался — гремела музыка, подъезжали мотоциклы. Читать в таких условиях выше человеческих сил, но им на это глубоко плевать. Здесь счет идет не на книжки, а на задницы. А по количеству задниц у них — сокрушительное превосходство. Ежедневно за обеденный стол садится двенадцать человек. Я сдалась и ретировалась в дом, они же остались заливать “Рикар” в ненасытные утробы, бутылку за бутылкой. Нет, это не свободная страна. Это — их страна. Vive la France!
Я пытаюсь хотя бы отчасти сквитаться с ними при помощи телевизора. Но я смотрю “кино не для всех”: шепот, субтитры. Они же смотрят американские боевики, в которых все умирают под оглушительную пальбу, и безумный сериал под названием “Горец”, где мужики в клетчатых юбках, поклявшиеся отомстить Макдоналдам, летают на машине времени и машут волшебными мечами. Какой-нибудь “Вечер в Голливуде” постоянно заглушает моего Антониони. Я тщательно обдумала ответный удар и потратила целое состояние на тяжелую артиллерию: привезла “Götterdämmerung”[73] и музыкальный центр с мощными динамиками. Но, увы, я — англичанка. Я не могу мешать их ежедневному празднику, как бы ни мешали мне они. Так что я поступаю в духе национальных традиций: сижу за занавесками, выглядываю в щелочку и ненавижу их всеми фибрами души.
Однако даже английскому терпению есть предел. Вспомните Азенкур и Ватерлоо[74] — это у нас в генах. Мое терпение закончилось на младенце четырех месяцев от роду. И я вышла на тропу войны. Вот как это случилось.
Жан-Ив и Луиза, обожаемый сын и неизбежная невестка, прибыли из Парижа на “ситроене-306” и поставили его на моем парковочном месте под múrier[75], на единственном тенистом пятачке, оставшемся на площади. Где он и простоял весь следующий месяц, в то время как моя машина поджаривалась возле фонтана. Будто бы мелочь, но мелочи тоже не сбросишь со счетов. Из утробы этого самого “ситроена” был извлечен багровый орущий младенец, который, по-видимому, не слишком хорошо перенес дорогу. Остальное семейство впало в состояние религиозного экстаза от его мощных легких и вонючих пеленок. Не знаю, как вы, а я детей терпеть не могу и никогда не допускаю их в свои пьесы. Ранние проявления преступных наклонностей родители часто принимают за гениальность. Переходный возраст — пытка для окружающих, а вовсе не для самих подростков. Почуяв потребительские инстинкты, они тут же начинают опустошать ваш кошелек и холодильник. Их бытовые привычки отвратительны. Однажды я мельком обзавелась падчерицей, которая выкрасила всю ванну в лиловый цвет, пытаясь придать пикантность своим мышиным космам. А уж младенцы — нет, у меня нет слов. Мне посчастливилось принадлежать к культуре, которая ненавидит детей еще больше, чем я. Однажды мы с Джорджем истоптали башмаки, разыскивая в Сохо какой-нибудь приличный ресторанчик, который бы при этом не опустошил мою кредитную карточку. В конце концов Джордж потерял терпение: “Ну этот-то чем плох, женщина?!” Я вынуждена была сознаться, что ищу благословенную надпись: “С детьми и собаками вход воспрещен”. Наверное, сейчас такие вывески запретили по каким-нибудь правилам Евросоюза. Я провела немало времени в сомнительных заведениях, беседуя у барной стойки с интересными трансвеститами различных полов, исключительно потому, что такие места считаются неподходящими для детей.
Но вернемся к нашему divin enfant[76], на которого немедленно сбежалась смотреть вся округа. Я начала узнавать эту интонацию изумления, восторга, “ути-пути, гули-гули, comme tu es belle, ma petite chérie”[77], непрерывно звеневшую в моем доме во время многочисленных визитов. Затем, к моему ужасу, вдруг улучшилась погода, бывшая до этого не по сезону холодной и дождливой. Температура в тени шелковицы достигла 35 градусов. У младенца начали резаться зубки, и его выставили на улицу в одном подгузнике и крошечной футболке, явно вменив ему в обязанность издавать истерические рулады до потери пульса. Орущее создание находилось теперь в каких-нибудь двух футах от моих белых тюлевых занавесок. По смене регистра и характерному бульканью я безошибочно могла определить, когда оно набирает воздух в легкие, собираясь с силами, чтобы снова завопить во всю мощь. Из дома выбегает Маман, в роли опытной утешительницы, без малейшего эффекта. Ор становится оглушающим. По мере того как у petite chérie поднимается температура, уровень звука все прибывает. И так все утро, все мои лучшие рабочие часы. К одиннадцати побиты все рекорды громкости. Так продолжалось день за днем. Я хотела послать в Англию за чудо-таблеткой под названием “Калпол”, которую один из моих бывших испробовал на своей дочери. Я совершенно отчаялась. Да охладите же ее, черт вас возьми! Может, тогда она не будет вопить беспрерывно днем и ночью! Или, может, они считают, что страдание очищает душу? Я решила действовать.