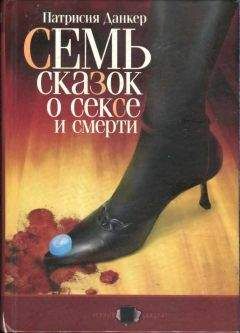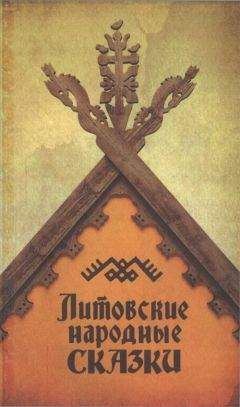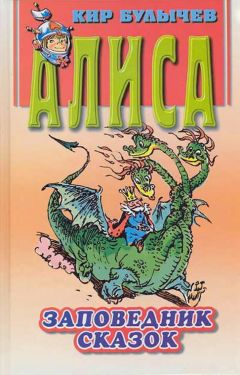Весь ресторан всколыхнулся в порыве сочувствия и негодования. “La pauvre dame… c’est intolerable. Heureusement elle est partie… Tiens, la même chose est arrivée chez ma cousine… La pauvre dame…”[81]
Я окунаюсь в розовое свечение солидарности. Я наконец дома. Я киваю своим сотрапезникам. Прибывает oeuf mayonnaise[82] — майонез воздушный, желтый, безумно калорийный и вредный. Домашний. Я смотрю на юное загорелое лицо, длинные, темно-золотые волосы, серые глаза. Она улыбается, но ничего не говорит. Наконец-то совершенно безмолвное дитя! Я улыбаюсь ей в ответ.
— Comment tu t’appelles, toi?
— Mathilde.
— Bonjour, Mathilde.
— Et vous?
— Henri.
— C’est un nom de garçon[83].
— Это сокращенное от Генриэтты.
— Я буду звать вас Стилó, ведь вы писательница.
Stylo — это ручка. Не то чтобы мне пришлось по душе такое прозвище.
— Но я пишу карандашами! Может быть, ты будешь звать меня “crayon”?
— Вы не похожи на карандаш. Tant pis[84]. Дайте мне ваши карандаши, я их наточу. И вы сможете писать!
Мы стали друзьями.
Весь ресторан одобрял мой выбор: рыба, бутылка “Rosé”, вода со льдом. Все были довольны, когда я заказала местный сыр, слегка попахивающий козлом. Они разделяли мое удовольствие от tarte aux prunes[85], самолично испеченного бабушкой Матильды, которая тоже вышла посмотреть на вновь прибывшую. Я пью вторую чашку кофе и успешно продвигаюсь к концу первой сцены второго акта, когда мадам появляется, чтобы узнать, как я себя чувствую.
— Спасибо, мне гораздо лучше.
— Всякое бывает.
— Увы.
— Надеюсь, все еще можно поправить.
— Не думаю. Но я, по крайней мере, не устроила скандала.
Устраивать скандал — это очень по-французски, здесь это в порядке вещей. Мне никогда их не понять. Мы киваем головами в полном согласии.
— Значит, вы не сказали ничего непоправимого?
— Что вы, я бы никогда себе этого не позволила.
— Однако вам пришлось уйти из дому.
— Не знаю, как я не сломалась раньше. Это продолжалось несколько недель.
— Недель! — Мадам не верит своим ушам.
— Собственно, с тех пор, как я сюда приехала. Я ведь понятия не имела… Вот так веришь людям на слово, а потом…
Мадам понижает голос. Мы — две женщины, обсуждающие свои женские секреты:
— Может быть, вам нужна комната в отеле?
— О нет. — Я мрачно усмехаюсь. — До этого еще не дошло. Но может дойти.
— А он знает, где вы?
И вдруг, в ужасной вспышке озарения, я понимаю, почему весь ресторан так драматически мне сочувствовал. Я — жертва домашнего насилия. Весь сценарий немедленно развернулся перед моими глазами, как в книжке комиксов. Я — женщина в возрасте. Мою личную жизнь давно пора сдать в архив. Но не тут-то было! Амур натягивает тетиву, и я сломя голову бросаюсь в любовное гнездышко на Средиземноморье, где мне внезапно открывается истинное лицо Южного Мачо, когда это усатое чудовище хватается за бутылку и кнут. Джордж родит от смеха, когда я ему расскажу. Но что, черт возьми, я должна сказать этой щедрой, сострадательной, цветущей блондинке? Она смотрит мне в глаза с таким неподдельным сочувствием, что я того и гляди забуду роль. Паника. Собраться. Моя реплика.
— Вы очень добры. Но, знаете, я сегодня вернусь домой. Я должна сделать еще попытку. В конце концов, это мой дом.
— Vôtre maison. Ah, bien. Я понимаю. Mais écoutez[86]… Если он не дает вам работать, а вам необходимо писать… приезжайте сюда. Я выделю вам стол, вы будете работать после обеда сколько захотите. Мы не используем столовую после ланча. И здесь очень прохладно.
У меня есть кабинет! Тихий, чудесный кабинет, со сводчатым потолком и глубокими каменными нишами, упомянутый в путеводителе и имеющий две мишленовские звезды, кабинет в уютной деревеньке Сессенон-сюр-Ор. Мы с мадам жмем друг другу руки и обмениваемся понимающими взглядами. Есть, есть на свете справедливость. Есть Бог. Возрадуемся.
Матильда появляется у моего локтя. Стоит и просто смотрит. Я думаю, что это одна из причин моей нелюбви к детям — в них есть что-то жутковатое. Их лица часто неподвижны, и трудно даже отдаленно вообразить, что творится в их головах. Им чужды этика и мораль — ведь это вещи не врожденные, а приобретаемые. Однако этот ребенок меня совершенно не раздражает. Она на моей стороне. Стоит рядом, дружелюбная, готовая помочь, и протягивает мне отточенные карандаши.
— Хотите чаю с лимоном? — спрашивает она. — Он вас лучше освежит, чем еще одна чашка кофе.
Боже мой, она говорит совсем как взрослая.
— Да, спасибо, Матильда, с удовольствием.
Она приносит высокий стакан в серебряном подстаканнике, на русский манер, и очень осторожно ставит его на стол передо мной. Теперь чай надежно доставлен, и она снова стоит неподвижно, глядя на меня, но не на мою рукопись.
— Хочешь посмотреть, что я написала?
— Я еще не учу английский.
Мы молчим. Она смотрит на меня. Мы обе чувствуем расположение к более доверительной беседе.
— Твой муж убьет тебя? — звонко спрашивает Матильда. — Маман говорит, такое часто случается.
— Все может быть. Но он не муж. Так, приходящий любовник.
— Да, у маман тоже есть такой. Ее кузен. Папа не возражает.
Я слегка ошарашена этим сообщением, но охотно поддерживаю разговор:
— Надеюсь, он не бьет маман.
— О нет. И папа тоже никогда. Она им обоим нравится. А почему ты не нравишься твоему любовнику?
Хороший вопрос. Я пока не придумала эту часть сюжета, здесь я плаваю. Матильда с присущим ей благородством по-своему истолковывает выражение отчаянья на моем лице.
— Не огорчайся! Все еще исправится. Почему ты не пьешь чай?
Она похлопывает меня по руке, как профессиональная сиделка, и исчезает. Вскоре она возвращается с большой тетрадью в бледно-голубую клетку, садится напротив с цветными карандашами и начинает рисовать. Мы сосредоточенно работаем в дружеском молчании. К вечеру Матильда вручает мне мой портрет. Я пишу, подсолнух на моей футболке выкрашен ярко-желтым, волосы стоят дыбом, дикими панковскими шипами. Надо взять в рамку и повесить на стену.
Чай с лимоном не упомянут в счете, но когда я заговариваю об этом, мадам непреклонна.
— О нет. Это подарок от Матильды. Она сама заваривала. Она сказала, что это для вас.
Я благодарно кланяюсь и оглядываюсь в поисках Матильды. Но она таинственным образом исчезла. Как оказалось, она ждет меня у машины, чтобы попрощаться.
— A demain? — говорит она с надеждой, глядя на кучу кассет и книг, наваленных в салоне.
— До завтра, — соглашаюсь я. — Непременно, в половине первого. Надеюсь, мой столик будет меня ждать.
В этот вечер я звоню Джорджу, в восторге от своих приключений и от того факта, что я теперь — жертва мужского произвола. У Джорджа на этот счет особое мнение. Он думает, что все женщины похожи на Гонерилью и Регану, только и делают, что замышляют всякие злодейства. Да и под личиной кроткой Корделии наверняка скрывается стерва не хуже ее бессердечных сестриц. Однако он охотно соглашается, что все мужчины — подлецы и обманщики, этому его учит весь его любовный опыт. Тут я не судья. В мужчинах я не разбираюсь. А про женщин он прав.
Да, ниже пояса — они кентавры,
Хоть женщины вверху!
До пояса они — богов наследье,
А ниже — дьяволу принадлежат;
Там ад, там мрак, там серный дух, там бездна,
Жар, пламя, боль, зловонье, разрушенье…[87]
И так далее. Все правда, дорогие мои, чистая правда. Джордж надеется, что новая пьеса будет комедией, поскольку репетиции “Короля Лира” совершенно его измотали. Я обещаю подсластить свое воображение всеми мыслимыми способами.
Так это все и начинается. Я довольно успешно работаю во второй половине дня. Матильда напротив усердно корпит над своим devoirs de vacances[88]. Пьеса обретает форму.
Но в восьми километрах отсюда, на раскаленной площади, ежедневная фиеста набирает обороты. Отчасти виной тому жара. Наши дома заполонили мухи, целые вавилонские башни мошек вьются под большим абажуром. К одиннадцати утра стены раскаляются. Белье высыхает в одну минуту, нигде ни ветерка. Старухи в черном на другой стороне площади сидят, словно приклеенные к своим стульям в патриархальной тени, осторожно освободив ноги от клетчатых шерстяных шлепанцев. Вся земля вокруг задыхается. Река пересохла. Лишь несколько зловонных луж осталось в самых глубоких расщелинах русла. Соседи выставили свои пожитки на тротуар прямо перед моими окнами. Развели огонь для барбекю. Мою гостиную наполняет темное облако ароматного дыма. Из Марселя прибыли новые родственники — по их словам, квартиры уже не vivable[89]. Улицы городов плавятся под солнцем. Какое счастье, что можно укрыться здесь, на мирной средневековой площади, в гостеприимном лоне семьи. Телевизор водрузили на подоконник, чтобы продолжать наслаждаться “Горцем” и “Вечером в Голливуде”, вдыхая остатки свежего воздуха, увлажненного брызгами фонтана. Все семейные разговоры свелись к жаре, как вынести этот кошмар и что же теперь готовить на обед, в такое-то пекло. Даже сыр нынче живет в холодильнике. Единственное разнообразие в беседу вносят рассуждения о неизбежной грозе.