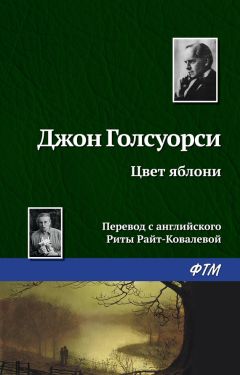Около коммивояжера сидел бледный черноволосый молодой человек в очках, а за ним - низенький старик с седыми усами, баками и с бесчисленными морщинами на лице; последним в этом ряду присяжных был аптекарь. Троих, сидевших прямо у него за спиной, мистеру Босенгейту не удалось разглядеть как следует, но троих остальных в конце второго ряда он запомнил в том порядке, в каком они сидели: пожилой мужчина в сером костюме, который то и дело подмигивал; затем какой-то безжизненный субъект, похожий на усатую треску, с тремя клочками влажных волос на высокой лысине, и, наконец, высохший, подвижный, остриженный под машинку человек, у которого на губах все время играла улыбка. Чтобы вынести первый и второй вердикты, им не потребовалось удаляться в совещательную комнату, и когда началось третье дело, мистер Босенгейт почувствовал, что его клонит ко сну, однако при виде военной формы на подсудимом он несколько оживился. Но что это был за тощий субъект!
Вид у обвиняемого был измученный, жалкий и унылый. Если у него и была когда-либо военная выправка, то в тюрьме она исчезла. Его бесформенный коричневый френч, на котором бронзовые пуговицы, казалось, старались вымученно улыбаться, показался мистеру Босенгейту коротким до смешного, хотя он и привык к подобным зрелищам. "Глупо, - подумал он. - Верный ишиас, как раз это место и следует прикрывать!" Но в нем проснулся офицер и джентльмен, и он добавил про себя: "Однако какое-то различие должно все-таки быть". Лицо солдатика, когда-то, как видно, загорелое, теперь было цвета прокисшего теста; взгляд больших карих глаз с белыми полосками вокруг зрачков, как это часто бывает у очень нервных людей, блуждал по лицам судьи, адвоката, присяжных и публики. У него были впалые щеки, волосы казались мокрыми, а шея была перевязана. Коммивояжер слева от мистера Босенгейта повернулся и прошептал: "Попытка к самоубийству! Боже мой, что за тип!" Мистер Босенгейт притворился, что он не слышит: он видеть не мог этого человека, - и медленно написал на кусочке бумажки: "Оуэн Льюис". Валлиец! Ну что ж, похоже на то совсем не английское лицо. И пытаться покончить с собой - это так не по-английски. Сделать такую попытку - значит сдаться, капитулировать перед Роком, уж не говоря о религиозной стороне дела. А самоубийство военного казалось мистеру Босенгейту особенно отвратительным. Это все равно что побежать от врага, и этот человек почти заслуживал участи дезертира. Он посмотрел на обвиняемого, пытаясь быть беспристрастным. А обвиняемый как будто смотрел прямо на него, хотя это, возможно, ему только казалось.
Прокурор - маленький, седой, проворный и решительный человечек, старше призывного возраста - начал подробно излагать обстоятельства дела. Мистер Босенгейт, обычно не глядевший по сторонам, все же заметил, что по залу прошло какое-то движение. Казалось, и у присяжных и у публики появилось то же предвзятое мнение, что и у него. Даже этот судья, похожий на бюст Цезаря и восседающий там, наверху, при всем своем бесстрастии, казалось, поддался общему чувству.
- Господа присяжные, прежде чем вызвать свидетелей обвинения, я хочу обратить ваше внимание на повязку, которую обвиняемый носит до сих пор. Он сам нанес себе эту рану казенной бритвой и этим, если так можно выразиться, нанес своей стране не только ущерб, но и оскорбление. Он не признает себя виновным и заявил суду, что не мог выдержать разлуки с женой. - Плотно сжатые губы прокурора тронула улыбка. - Ну, господа, если придавать в наше время значение подобным оправданиям, то я просто затрудняюсь сказать, что ждет нашу империю в будущем.
"И я тоже, черт возьми", - подумал мистер Босенгейт.
Показания первого свидетеля, соседа по койке, успевшего удержать руку обвиняемого, а также сержанта, которого тут же вызвали на место происшествия, были исчерпывающими, и мистер Босенгейт начал лелеять надежду, что они вынесут вердикт, не покидая зала суда, и он успеет домой до пяти часов. Но тут случилась заминка. Когда вызвали полкового врача, его не оказалось на месте, и судья, впервые в этот день проявляя человеческие чувства, объявил, что он переносит заседание на следующий день.
Мистер Босенгейт принял это сообщение невозмутимо. Он будет дома даже раньше! Собрав листки, на которых он делал записи, он встал. В это время незадачливого самоубийцу - ссутулившегося человека в грязно-коричневой одежде, едва волочившего ноги, - выводили из зала. Ну на что годятся подобные люди в такое время? На что? Обвиняемый поднял голову, и мистер Босенгейт встретился глазами со взглядом этих больших карих глаз с белыми полосками. Какое страдальческое, несчастное, жалкое лицо! И что за манера смотреть на людей подобным образом! Обвиняемый спустился по лестнице и исчез. Мистер Босенгейт вышел и направился через рынок к гаражу, где он оставил машину. Солнце палило немилосердно, и он подумал: "Надо полить сад". Он вывел машину из гаража и уже собирался завести мотор, когда какой-то прохожий заговорил с ним:
- Послушайте! Этот последний обвиняемый - опустившийся тип, правда? Нам не нужны люди такого пошиба.
Это был его сосед по скамье - коммивояжер, уже с коричневым саквояжем в руке, в соломенной шляпе и с пеной от недопитого пива на усах. Холодно ответив "Всего доброго!" и подумав: "Но и такие, как ты, тоже не нужны", мистер Босенгейт завел мотор, наделав много ненужного шума. Но фигура обвиняемого, как будто ожившая от слов коммивояжера, казалось, неслась рядом с ним, обратив на него взгляд своих несчастных, жалких глаз. Не мог выдержать разлуки с женой! Странное объяснение для поступка, которым он хотел навсегда лишить себя возможности увидеться с ней. И потом полбулки, даже один кусочек, все же лучше, чем остаться совсем без хлеба. Но, слава богу, в армии не так уж много этих неврастеников. Печальная фигурка исчезла, и вместо нее мистер Босенгейт представил себе фигуру собственной жены, склоненную над розами "Слава Дижона" в розарии, где она обычно работала немного перед чаем, потому что один садовник не справлялся со всеми делами. Он представил ее себе такой, какой часто видел: вот она выпрямилась и стоит, склонив голову набок, положив одну руку в перчатке на стройное бедро, и поглядывает чуть насмешливо из-под полуопущенных век на бутоны, которые никак не распускаются. И французское слово Caline (ласковая) - он немного занимался французским - мелькнуло у него в голове: "Кэтлин - Калин!" Если, приехав, он застанет ее там, то подкрадется к ней по мягкой траве и... ах!.. Но только осторожно, чтобы не помять ей платье и прическу! "Если бы только она не была такой замкнутой, - думал он, - а то, как кошка, к которой близко не подойдешь, во всяком случае, по-настоящему близко".
Машина, мчавшаяся назад быстрее, чем утром, когда он ехал в город, уже миновала пригородные виллы и теперь переваливала через холм, туда, где среди полей и старых деревьев, в стороне от обыденной жизни, раскинулся Чармлей. Сворачивая на свою аллею, мистер Босенгейт спросил себя с некоторым удивлением: "Интересно, а о чем все-таки она думает? Интересно!" Оставив перчатки и шляпу в прихожей, он прошел в умывальную, чтобы плеснуть на лицо прохладной воды и вымыть его душистым мылом, испытывая при этом сладостное чувство, словно мстил той нечистой атмосфере, в которой ему пришлось париться столько часов. Он снова вышел в прихожую, мыло щипало ему глаза, и он ничего не видел в тусклом свете. Вдруг послышался тоненький голосок: "Папа! Посмотри!" Его маленькая дочурка стояла на лестнице, на полпути наверх, держась одной рукой за перила. Вот она вскарабкалась на них и съехала вниз. Платьице у нее задралось на голову, а панталончики голландского полотна оказались чуть ли не подмышками. Мистер Босенгейт сказал, растаяв:
- Ну, это просто замечательно!
- Чай подали в беседку. Мамочка ждет. Пошли!
Держа ее ручонку в своей, мистер Босенгейт, пройдя через гостиную, длинную и прохладную, с опущенными шторами, через бильярдную, высокую и тоже прохладную, и через оранжерею, зеленую и душистую, вышел на террасу, а оттуда на верхнюю лужайку. Никогда прежде не испытывал он такой ясной и веселой радости, созерцая свои владения, такие чудесные и зеленые под июльским солнцем, и он сказал:
- Ну, Кит, что вы тут без меня поделывали?
- Я покормила своих кроликов и Гарриных, и мы лазили на чердак, Гарри провалился ногой сквозь застекленную крышу!
Мистер Босенгейт шумно вздохнул.
- Это ничего, папочка, мы ногу вытащили, у него только маленькая царапина. И мы делали тампоны, я сделала семнадцать, мамочка тридцать три, а потом она поехала в госпиталь. А ты много людей посадил в тюрьму?
Мистер Босенгейт кашлянул. Вопрос показался ему неуместным.
- Только двоих.
- А как в тюрьме, папочка?
Мистер Босенгейт, который знал об этом не больше своей маленькой дочурки, ответил рассеянно:
- Не очень хорошо.
Они проходили под молодым дубком, там, где тропинка сворачивала к розарию и беседке. Что-то мелькнуло в воздухе и вцепилось в шею мистеру Босенгейту. Его дочурка запрыгала и стала давиться от смеха.