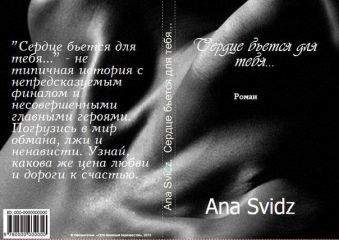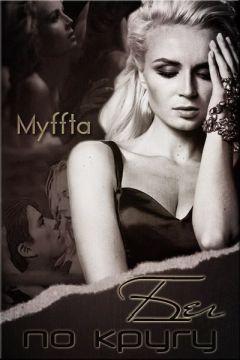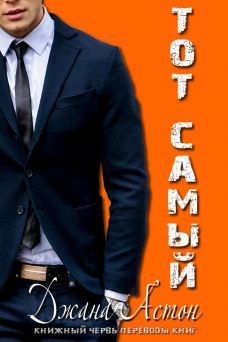Ознакомительная версия.
Что значит – бессмысленная?
Разве бессмысленна смерть Христа? или первых христиан? Всех христиан-мучеников…
Одним мучеником стало больше. На небе.
Одним прекрасным человеком меньше. На земле.
Россия умеет убивать лучших своих детей.
Россия – бескрайняя Голгофа… Всем хватит места!"
ВСПОМНИЛОСЬ: “УБЕЙ ЕГО, ВАСЯ!”
И опять то же жуткое ощущение: мир наполнен выросшими васями…
* * *
…Живу какой-то механической жизнью. Известие застало меня за деланием генеральной осенней уборки. Так и не завершила её.
Так всё и стоит, и лежит, и валяется – как в то утро… И покрывается печалью и пылью… Дом развороченный, как землетрясением. Душа развороченная… Руки опустились и не подымаются. Делаю только самое необходимое: кое-какую еду, совсем простую, да обихаживаю Ксюшу. И всё это – как во сне. Так хочется проснуться, Господи! И чтобы всё ЭТО оказалось сном…
Но я засыпаю и просыпаюсь в этом сне – а проснуться мне так и не удаётся… Какой страшный сон – эта жизнь.
И неужели… неужели пробуждение от этого кошмара возможно только в смерть? Неужели только когда умрём – тогда только и проснёмся?…
* * *
Как же мне жить теперь? Мне – от природы правдивому человеку.
Я всегда говорила правду своим детям. Это было одним из неколебимых принципов моей жизни. Никакой лжи – ни в большом, ни в малом.
Так как же мне жить теперь?
Я улыбаюсь своей девочке, я улыбаюсь… Я даже смеюсь вместе с ней иногда, ведь она так любит посмеяться, повеселиться… Да она просто жить без этого не может. И я разыгрываю перед ней маленькие репризки, я напрягаю всё своё остроумие, – и она благодарно хохочет… И я смеюсь вместе с ней… Но чего мне это стоит, Господи!
И получается, что я лгу. Лгу своей девятимесячной дочке. Потому что улыбка моя – через силу, и смех – сквозь слёзы.
Я раздвигаю, раздираю непослушные губы в невозможную эту улыбку, и мне больно, но я приказываю глазам не плакать.
…А потом, покормив её перед сном, я вливаю в неё со своим молоком – свою тоску… И она плачет по ночам. Она вскрикивает во сне. Господи, неужели ей снятся мои – страшные сны?
…И по утрам, проснувшись, она смотрит на меня усталыми, грустными, недетскими глазами.
КОГДА-ТО ДАВНО Я НАПИСАЛА КНИГУ О ДЕТСТВЕ СЫНА
Когда-то давно я написала книгу о детстве сына. Эта книга заканчивается словами, полными самой искренней, неподдельной веры:
“Ах, как хочется порой стать ребёнком! Выплакаться от души и от души посмеяться. Сказать дураку, что он дурак. Крикнуть звонко, безбоязненно: ”А король-то голый!…" А тому, кого любишь, сказать тихо и просто: “Люблю”, не раздумывая, стоит или не стоит говорить это. И вдруг увидеть, что небо – синее, снег – белый, роза пахнет розой, а жизнь создана для радости и удивления…"
Роза пахнет розой, а жизнь создана для радости и удивления… Теперь я не могла бы написать таких слов. Теперь – после 9 сентября.
Ребёнок, чтобы стать полноценной личностью, должен дышать воздухом счастья…
Таким воздухом дышал мой сын. Наше тогдашнее одиночество и нищета ничуть не отравляли этого волшебного воздуха, наполняющего каждый наш день. Одиночество и нищета были не содержанием жизни, а всего лишь простенькой, невесомой рамой для чудесной картины, полной красок, света и смысла…
Или просто я была моложе на пятнадцать лет и не вся кожа ещё была содрана? Или вера моя была тогда сильнее? Или я была больше сосредоточена на ребёнке и совсем мало – на внешнем?
Или я забыла уже, в каких муках и с каким трудом созидался этот волшебный воздух счастья?…
А каким воздухом будет дышать моя дочь?
Неужели я никогда не смогу улыбнуться ей с лёгкой душой? Неужели я никогда не смогу сказать ей: “Девочка моя, жизнь прекрасна!” (не думая при этом, что она – ужасна…)
* * *
Кажется, мы опять опоздали. Сначала – родиться, теперь вот – уехать. Хотя зачем я себя растравливаю этим: уехать, уехать?…
* * *
“Дорогой Володя! Посылаю тебе фотографии отца Александра, и стихи, ему посвящённые. Ему и Новой Деревне. Что опять же – ему. Потому что Новой Деревни без него – для меня не существует. И не только для меня, наверное… Фотографии давние, здесь ему нет ещё и сорока. Боже мой, такой молодой! А ведь он мне тогда уже казался мудрым старцем…
Эти снимки сделаны в сентябре, пятнадцать лет назад. Я тогда была в ожидании Антона и жила всю осень в Новой, вблизи храма, общаясь почти ежедневно с отцом Александром. Однажды пришла с фотоаппаратом и поснимала его в церковном дворике.
Стихи написаны в те же времена: середина семидесятых. Тогда многие уезжали. И из прихожан новодеревенского храма тоже. Уезжать, не уезжать? – этот вопрос встал тогда и передо мной. Но отец Александр, благословивший многих на отъезд, сказал мне: “Это – не твой путь”. И я почувствовала облегчение от его слов.
“Нам этого не можно”, – как говорит Агафья. Помнишь? Женщина из таёжного тупика, о которой уже несколько лет пишет в “Комсомолке” Песков. Отвечает так на все призывы и уговоры переехать из тайги в посёлок, ближе к людям, к цивилизации. “Нам этого не можно, батюшка не благословил”. Вот так же и я. На все призывы поискать более благословенного места под солнцем могу ответить словами этой простой женщины: “Не можно. Батюшка не благословил”.
А вот эти стихи.
ОТПУЩЕНИЕ
посвящается отцу Александру
Стучат часы в твоей сторожке
С окном на деревенский храм,
На кладбище… – где бродит кошка
По летним скошенным цветам…
Стучат часы… И, кучевые,
С тенями синими – вне пут! –
Как государства кочевые,
Июля облака плывут…
Пустынна Новая Деревня.
Трава горячая звенит…
И зной пульсирует в деревьях.
Ты говоришь: “Вошло в зенит”.
И я ответ прочла – во взгляде,
Под стук часов – живой воды…
“Кто без греха? А впредь – не надо.
Жизнь продолжается… Иди.”
А вот ещё одно.
Светом Яблочного Спаса
Наливается душа…
Утра своего и часа
Дождалась я, не спеша.
И горит Преображенье
Чистым пламенем зари…
Знаков и предчувствий жженье…
“Имя, имя назови!”
Хор кузнечиков за храмом…
Деревенский мир, приют.
В окнах выставлены рамы –
Слышно – певчие поют…
И антоновкой закатной
Пахнет клирос и притвор…
Золотом листвы закапан
Маленький церковный двор…
Над сторожкой тихо рдеет
Августа – рябины ветвь…
И в душе неслышно зреет
Плод – спасение – ответ.
Есть и ещё. Но это – в следующем письме…"
Сначала ты спала на лоджии – среди неутомимо доцветающих в этой лютой осени настурций и бархатцев…
А внизу – по двору ездила поливалка и поливала грязные осенние лужи… Наш советский сюр. А внизу, во дворе, тёмной змеёй, тяжело шевелящейся под тёмным дождём, стояла очередь к винному магазину. Другая змея – покороче и расцвеченная пятнами зонтов, утыкалась своей головой в запертые двери ДЭЗа: сегодня должны были выдавать “визитки”. Очередная совковая придумка: как всех уравнять в правах и возможностях.
А поливалка всё ползала и поливала…
Унылую эту картину скрашивали лишь оранжевые огоньки настурций и бархатцев, да две зарумянившиеся на осеннем холоде щеки, весело выглядывающие из опушки комбинезона…
А потом мы пошли с тобой гулять – туда, вниз. Потому что там – любимые твои деревья и падающие листья… И ты никак не можешь без новых впечатлений.
Мы выезжаем с тобой на улицу. Вверху, на нашем тринадцатом этаже, ещё солнышко, а здесь уже сумеречно. Здесь идёт дождь. Сероглазое существо, высовывающееся из коляски, неутомимо осыпает меня вопросами. Точнее – одним-единственным вопросом, но звучащим без перерывов: “Ы? ы? ы?” На языке моей девочки это означает: “Что это? кто это?”
– Ы? ы? ы?
Кто это?! – хочу я спросить вместе с ней, с содроганием оглядываясь вокруг…
Они выползали из намокших кустов, из-под набрякших деревьев, из неосвещённых дверей подъездов, отпочковывались от винной очереди и от очереди за “визитками”, отлеплялись от стен домом, выныривали из-за угла… Кто это?!
Тараканьи повадки, мутные глазки, плоские переносицы; речь громкая, крикливая, но ни одного слова не разобрать…
Ознакомительная версия.