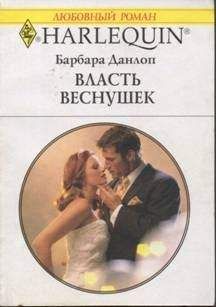Он как будто шутит. Наливает чай, придвигает ей чашку. Вероника наблюдает за ним. Он высокий и худощавый. На нем свитер и вельветовые джинсы в широкий рубчик. По его серьезному, еще юному лицу волнами проходят то тени, то вспышки.
-- В этой одежде, -- говорит Вероника, -- ты очень, очень похож на студента. С ума сойти, до чего ты молодо выглядишь!
-- Ты тоже.
-- Я по-другому... Да, я думаю, что тебе надо жениться. Если бы ты повстречал женщину с теми же вкусами, с теми же стремлениями, что у тебя... Я была ошибкой. Теперь мы это знаем.
В голосе ее смирение и печаль -- и это не кажется ни притворством, ни наигрышем. И вместе с тем она как бы извиняется.
-- По-моему, ты хочешь что-то сказать и не решаешься. Говори все, что хочешь, Жиль, я готова все выслушать.
-- Что ж, поскольку, что бы мы ни говорили друг другу, это ничего не изменит, не могла бы ты сказать мне как можно более откровенно, почему все-таки у нас ничего не получилось? Конечно, у меня было время об этом подумать самому, и я нашел кое-какие объяснения. И все-таки я до конца еще не могу понять... Так вот, может быть, ты могла бы мне сказать, какова, по твоему мнению, основная причина нашего разлада? Я обещаю тебе, что не рассержусь, даже если это будет мне обидно. Пусть даже хуже, чем обидно. Я тоже готов все вы слушать.
Она допивает чай, он берет у нее из рук чашку, потом она осторожно вытирает уголки губ платком, который вынимает из сумки. Взгляд Жиля задерживается на сумке, которую он как будто только что заметил. Это очень красивая, явно дорогая, роскошная вещь. Черная блестящая кожа, испещренная неравномерным узором, видно, крокодиловая.
-- Нет, ты не знаешь этой сумки, -- говорит Вероника, кладя ее рядом с собой на кресло. -- Я схватила ее второпях, не подумав...
Она не договаривает фразы и чуть заметно краснеет.
-- Неважно, -- говорит Жиль. -- Не извиняйся.
-- Я готова ответить на твой вопрос, -- начинает она, -- но не уверена, что смогу назвать причину. Просто мы не сошлись характерами, вот и все. У нас разные представления о... Ну, о том, как жить, что ли, как относиться к жизни. Ты словно из другого века...
-- Какое содержание ты вкладываешь в эти слова?
-- Я не умею это выразить. Может быть, надо было сказать не "из другого века", а "другой породы". Вот, например, ты вполне довольствовался тем, что у нас было, ты не считал, что это относительно убогий уровень. Я говорю: относительно... Когда мы жили вместе, я знала, что так будет изо дня в день, что ничего другого ждать нельзя. И теперь я могу тебе признаться: меня это пугало.
-- Тебя это пугало?
-- Мне казалось, что все от меня ускользает.
-- Все?
-- Мне хотелось вести другую жизнь, непохожую на ту, которую мы вели.
-- Более роскошную? Более блестящую? Более разнообразную?
-- Да. Что тут скажешь, я ничего не могу с собой поделать, я предъявляю к жизни требования, которых у тебя нет. Впрочем, ты это и сам прекрасно знаешь, ты меня не раз за это упрекал. За то, что я слишком многого хочу... Ну что ж, я и в самом деле многого хочу.
-- Но все-таки это недостаточная причина для то го, чтобы расстаться.
-- Вполне достаточная! Я же говорю тебе: я боялась. Боялась, что живу неинтенсивно. Нам дана только одна жизнь, и она проходит очень быстро. (Вероника хмурит брови, похоже, что она произносит защитительную речь.) Скоро нам будет уже под тридцать. Больше трети жизни прошла вот так, фу! Улетела! Жить осталось только каких-то жалких двадцать лет, жить в том смысле, как я это понимаю, потому что -- я тебе это уже не раз говорила, -что и как со мной будет после пятидесяти, меня решительно не интересует. Я хочу получить все сейчас. Не в шестьдесят и даже не в пятьдесят. Тогда будет поздно.
Некоторое время они молчат. Жиль, видно, обдумывает то, что услышал. Он сидит, упершись локтями в колени и склонив голову. Вероника раскрывает сумку и вынимает пачку "Голуаз". Берет сигарету, закуривает, глядит в окно. Небо блекло-голубое, чувствуется осень. Потом она снова переводит взгляд на Жиля.
-- О чем ты думаешь вот в эту секунду, можешь ты мне сказать?
-- Да, только это не очень интересно.
-- И все же скажи.
-- Я думал о письмах, на которые я как-то наткнулся и имел нескромность прочесть.
-- Это были мои письма? -- спрашивает она после мгновенной паузы.
-- Нет. Пять лет назад я открыл шкатулку, в которой моя мама хранила фотографии и разные документы. Мне захотелось посмотреть фотографии. Ленточка, стягивающая пачку писем, развязалась, и я узнал почерк отца и не смог одолеть любопытства. Это была переписка отца и матери с сентября 1939-го по май 1940-го. В мае отец попал в плен. Это был год моего рождения... В письмах они писали о себе -- они тогда были молодоженами -- и обо мне, до и после моего рождения... Вот о чем я думал, когда ты меня спросила.
Вероника озадаченно смотрит на него.
-- Я не вижу никакой связи с тем, что я тебе сказала.
-- Быть может, ее и нет. Знаешь, как приходят мысли в голову. Иногда трудно найти ассоциацию... Я забыл сказать, что, когда я читал эти письма, меня охватывало чувство счастья. Да, я думаю, это было именно счастье. С тех пор я вел себя по-другому с родителями. Они заметили перемену в моем отношении к ним, но, конечно, не подозревали о ее причине.
-- Ты говоришь, что был счастлив, читая эти письма? Почему?
-- Они написаны, как ты понимаешь, безо всякой претензии на стиль, да и вообще безо всякой претензии, но в них было столько доброты, простоты и обаяния...
-- И от этого ты испытал такое...
-- Не буквально. Это трудно объяснить. У меня возникло впечатление, что я... как бы продолжение... словно вода в русле реки, чудесное, непрекращающееся движение от истока к устью. Если хочешь, своего рода вечно живое настоящее. Я говорю сейчас несколько высокопарно потому, что никогда не пытался проанализировать это впечатление, но, по сути, оно очень простое.
Несмотря на попытку Жиля объяснить свою мысль. Вероника, судя по всему, по-прежнему не понимает, при чем здесь все это. Она смотрит на Жиля с недоумением, видно, думая про себя, какой-то он все-таки чудной: вечно его занимают странные, несуразные, ни с чем не сообразные вещи, мало понятные даже ему самому, никак не связанные с сегодняшним днем. Однако она все же решается сказать:
-- Ты вспомнил об этих письмах по контрасту с нами?
-- Нет. Я подумал о них, когда ты сказала, что жизнь коротка и ты хочешь получить все сразу и сполна.
-- А, понятно, -- еле слышно проговорила она, хотя, очевидно, она так ничего и не поняла. Вероника в нерешительности: она глядит на часы и, похоже, собирается встать.
-- Мне, пожалуй, пора, -- говорит она.
-- Ты ни о чем не жалеешь?
Вопрос застает ее врасплох: она застывает на месте.
-- Жалею? Ты имеешь в виду... нас? Конечно, жалею, -- она делает неопределенный жест. -- Всегда грустно, когда что-то кончается. Да, несмотря ни на что, я буду жалеть о многих... о всех хороших минутах, которые у нас были.
-- А без Мари тебе не будет скучно?
-- Конечно, будет. Но что ты хочешь, Жиль? Я еще молода. Я хочу жить, как живут молодые. В наши дни нельзя жертвовать собой ради ребенка.
-- Для тебя это была жертва?
-- Я неудачно выбрала слово. Конечно, это не была жертва, но все же, когда появляются дети, это уже не то. Они становятся главным, а к этому я еще не готова. И кроме того, в наш век дети нам по-настоящему не принадлежат. (Снова создается впечатление, что она произносит защитительную речь.) Как только они начинают самостоятельно выходить из дома, они отрываются от нас, у них появляется свое общество, и все кончено, домой их не заманишь. Поэтому, в конце концов... Но я понимаю, у тебя это все по-другому. Ты прирожденный отец, Жиль... Нет, я не шучу, это правда. Признайся, пока Мари будет с тобой, ты будешь счастлив?
Он не отвечает.
-- Знаешь, -- говорит он, -- когда я тебя спросил, жалеешь ли ты о чем-нибудь, я вовсе не собирался тебя ни в чем переубеждать, просто мне любопытно было знать, что ты думаешь, что ты чувствуешь. Мы просто болтаем, и все. Вполне доверительно, я надеюсь?
-- Конечно, Жиль, я всегда любила с тобой говорить.
Он глядит на нее с нежностью. Он улыбается, качает головой.
-- Нет, не всегда. Тебе часто случалось со мной скучать. Я тебе что-то рассказывал, а ты едва слушала. Ты думала о другом. Ты была далека, очень далека.
-- Ну, например, когда, я не помню?..
-- Нет, так бывало. И даже в самом начале. Даже в Венеции. Бывали моменты, в ресторане, да и не только в ресторане, когда ты полностью отсутствовала. Признайся... Ты уже тогда подозревала, что совершила ошибку, ведь верно? Что тебе не стоило выходить за меня замуж?
Он говорил безо всякого ожесточения, скорее мягко. И точно так же (словно они соревнуются в обходительности, в бережности по отношению друг к другу), точно так же она отвечает, глядя ему прямо в глаза:
-- Да, верно, с первых же дней я поняла, что мы не созданы друг для друга.
-- Мы никогда не говорили о нашем путешествии в Венецию. Но ты была очень разочарована, правда? В частности, убожеством гостиницы. Да?