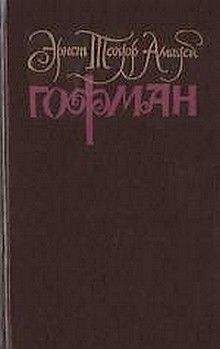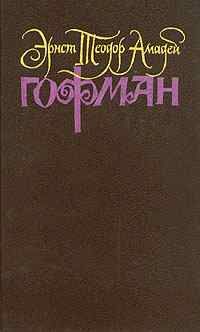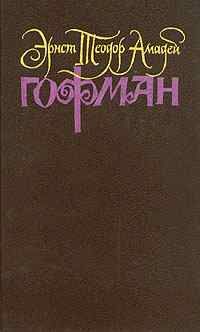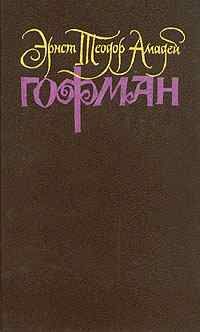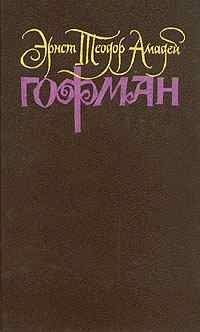- Весьма галантно, - прервал его Оттмар, - но с твоего позволения, милая сестричка, не вполне справедливо. Я согласен с батюшкой в том, что все, приготовленное тобою, прошедшее через твои руки, будь то еда, питье или какая-либо вещица, также и во мне поселяет сердечное удовольствие. Колдовство, которое сему причиной, я, однако, ищу в глубинных духовных узах, а не в твоей красоте и изяществе, как Биккерт, у которого, натурально, об них только и речь, ты ведь ему точно свет в окне, еще с тех пор, как тебе лет восемь сровнялось.
- Уж вы нынче про меня чего только не насочиняете! - оживленно воскликнула Мария. - Не успела я одолеть ночные фантазии да виденья, как ты отыскал таинственное во мне самой, и хоть я не думаю более ни о страшном майоре, ни об ином каком двойнике, но все же рискую стать кошмаром для самой себя и пугаться собственного отражения в зеркале.
- Куда как скверно, - смеясь заметил барон, - ежели шестнадцатилетняя девушка не сможет более смотреть в зеркало, не рискуя счесть собственное свое отражение кошмаром. Но отчего это мы сегодня никак не уйдем от фантастических бредней?
- И отчего вы же сами, любезный батюшка, - подхватил Оттмар, - невольно сплошь и рядом даете мне возможность высказаться обо всех тех материях, которые вы решительно отвергаете как пустое и даже греховное влечение к секретничанью, и потому - признайтесь! - не очень жалуете моего доброго Альбана. Пытливость, жажда знаний, заложенные в нас самою природой, не могут быть ею же наказуемы, напротив, мне кажется, чем деятельней в нас эта жажда, тем ловчей взбираемся мы к вершинам по лестнице, которую сама природа нам подставила.
- А когда решим, что добрались до изрядных высот, - вставил Биккерт, сей же час бесславно кувыркаемся вниз и по головокруженью, охватывающему нас, замечаем, что чистый воздух вышних сфер не годится для наших тяжеловесных голов.
- С некоторых пор, пожалуй что с появления в нашем доме Альбана, отвечал Оттмар, - я просто не знаю, как мне быть с тобою, Франц. Прежде ты всей душой, всем сердцем был привержен чудесному, размышлял о многокрасочных пятнах, о диковинных фигурах на крыльях мотыльков, на цветах, на камнях, ты...
- Довольно! - вскричал барон. - Еще немного, и мы опять примемся за старое. Все, что ты вместе со своим мистическим Альбаном извлекаешь из всяких-разных закоулков, я бы даже сказал, словно выискиваешь в некоем фантастическом чулане, чтобы возвести из этого искусственное здание, лишенное какого бы то ни было прочного фундамента, я причисляю к тем снам, каковые, по моему убеждению, были и будут как пена на вине. Пена, вскипающая в напитке, эфемерна, безвкусна - словом, как итог душевной работы, она ничуть не выше древесных стружек, летящих из-под токарного резца: ведь, даже если волею случая они и принимают некую форму, все же никому в голову не придет считать их тою вершиной, к которой стремился художник. Кстати, мне теория Биккерта представляется настолько убедительной, что я намерен прибегнуть к ней на деле.
- Раз уж мы никак не отойдем от сновидений, - сказал Оттмар, - то дозвольте рассказать вам об одном происшествии, о котором намедни сообщил мне Альбан и которое не испортит приятного настроения, в коем мы теперь пребываем.
- Пожалуй, - отозвался барон, - но при условии, что ты совершенно уверен в последнем и что Биккерт волен вставлять свои замечания.
- Вы, милый батюшка, сказали то, что у меня на душе, - молвила Мария, ведь обычно Альбановы рассказы если и не вселяют трепета и ужаса, то до странности увлекают и держат в напряженье, так что хотя впечатление по-своему и благотворно, однако же чувствуешь себя разбитой.
- Добрая моя Мария будет мною довольна, - отвечал Оттмар, - а Биккертовых замечаний я осмелюсь не потерпеть, ибо в моем рассказе он найдет, пожалуй что, подтверждение своей теории грез. Любезный же батюшка уверится, как несправедлив он к моему доброму Альбану и к искусству, власть над коим даровал ему Господь.
- Я, - сказал Биккерт, - стану глотать вместе с пуншем любое замечание, которое попросится на язык, но уж право строить гримасы, притом сколько захочу, я оставляю за собой, этого у меня не отнять.
- Ну что ж, изволь, - воскликнул барон, и Оттмар без долгих предисловий начал свой рассказ:
- Мой Альбан свел в университете, в Й., знакомство с юношей, чья приятная наружность с первого взгляда располагала к нему каждого, и потому все встречали его доверием и благосклонностию. Оба они изучали фармацию, и то обстоятельство, что живейшее рвение к науке всегда приводило их первыми на утренние занятия и они подсаживались друг к другу, вскоре сблизило их, и, поскольку Теобальд (так Альбан называл своего друга) всей душою, всем своим верным сердцем тянулся к нему, между ними возникла теснейшая дружба. Теобальд все более обнаруживал весьма нежный, почти женственно-мягкий характер и идиллическую мечтательность, каковая в нынешнее время, которое шагает вперед словно грозный исполин, не замечая, что попирают его грохочущие стопы, выглядела столь мелкой, столь слащавой, что большинство смеялись над ним. Один лишь Альбан, щадя нежную душу своего друга, не чурался следовать за ним в его крохотные причудливые цветники, хотя и не уставал вновь и вновь возвращать его в суровые бури реальной жизни и таким образом раздувать в яркое пламя каждую искру силы и мужества, которая, возможно, еще тлела в его сердце. Альбан усматривал в этом свою обязанность перед другом, тем более что полагал университетские годы единственным временем, которое позволит пробудить и укрепить в Теобальде силу отважного сопротивления, столь необходимую человеку в наши дни, когда беда приходит нежданно, как гром среди ясного неба. Ведь жизненный план Теобальда был целиком скроен в соответствии с его простым образом мыслей, принимающим в расчет лишь ближайшее окружение. По завершении образования, получивши степень доктора, он намеревался возвратиться в родной город, жениться там на дочери опекуна (он был сирота), с которой вместе рос, и, обладая значительным состоянием и не ища практики, жить в свое удовольствие и заниматься наукою. Вошедший тогда в моду животный магнетизм{168} возбудил в нем горячий интерес, он тщательно изучал под руководительством Альбана все, что об этом написано, и накапливал собственный опыт, но вскоре, отвергнув всякий физический медиум как противный глубокой идее чисто психически действующих сил природы, обратился к так называемому Барбаренову магнетизму{168}, сиречь к более давней школе спиритуализма.
Едва Оттмар произнес слово "магнетизм", как лицо Биккерта дрогнуло, сперва чуть заметно, потом судорога crescendo* захватила все мышцы, достигла fortissimo**, и в конце концов на барона глянула такая до невозможности несуразная физиономия, что он уже готов был громко рассмеяться; в этот миг Биккерт вскочил и хотел было разразиться тирадою, но Оттмар быстро подал ему стакан пунша, который художник в сердцах осушил, тогда как Оттмар продолжил свой рассказ:
______________
* Усиливаясь, нарастая (ит.).
** Здесь: кульминации (ит.).
- Альбан душою и телом предался месмеризму еще в ту пору, когда учение о животном магнетизме только-только начало распространяться, и отстаивал даже возбужденье насильственных кризисов, которые наполняли Теобальда брезгливостью. Разногласия в этом вопросе сделались у друзей предметом многих и многих споров, и случилось так, что Альбан, который не мог не признать иных выводов Теобальда и которого невольно увлекли наивные мечтания друга о чисто психическом воздействии, тоже склонился к психическому магнетизму и в итоге отдал полное предпочтение новейшей школе, каковая, под названьем Пюисегюровой, соединяет оба эти течения{168}, тогда как Теобальд, обычно с легкостию воспринимавший чужие взгляды, ни на йоту не отошел от своей системы, более того, упорно отвергал всякий физический медиум. Свой досуг - а стало быть, свою жизнь - он желал целиком употребить на то, чтобы возможно дальше проникнуть в загадочные глубины психических воздействий и, все сосредоточенней устремляя на это свой дух, храня чистоту от всего противного своей натуре, стать достойным учеником природы. В этом отношении его созерцательной жизни надлежало явить собою род жреческого служенья, и, приобщаясь все более возвышенным таинствам, он должен был наконец вступить в святая святых огромного храма Изиды. Альбан, который возлагал большие надежды на благочестивый нрав юноши, укреплял его в этом намерении, и, когда Теобальд достиг наконец своей цели и возвратился на родину, Альбан в напутствие сказал, что ему должно сохранить верность начатому делу... В скором времени Альбан получил от друга письмо, бессвязность коего свидетельствовала об охватившем его отчаянии и даже внутреннем разладе. Все счастие его жизни, писал Теобальд, рассыпалось прахом; он должен идти на войну, ибо туда из тихих родных краев устремилась душою его ненаглядная, и лишь смерть избавит его от горя, коим он терзается. Альбан забыл и сон и покой; он сей же час отправился к другу и после нескольких тщетных попыток сумел мало-мальски успокоить несчастного... Когда здесь проходили чужеземные войска - так рассказывала маменька Теобальдовой возлюбленной, - в доме квартировал итальянский офицер, который с первого взгляда пылко влюбился в девушку; с горячностию, свойственной его народу, он взял ее в осаду и, во всеоружии достоинств, прельстительных для женского сердца, в считанные дни разбудил в ней такое чувство, что бедный Теобальд был совершенно забыт и она жила одним этим итальянцем. Теперь он уехал в действующую армию, и с той поры бедную девушку всечасно преследует образ любимого: вот он обливается кровью в страшных баталиях, вот, поверженный наземь, умирая, зовет ее по имени, - в конце концов она впала в настоящее помрачение рассудка и не узнала злосчастного Теобальда, когда он воротился с надеждою заключить в объятья радостную невесту. Едва лишь удалось воскресить Теобальда к жизни, как Альбан тотчас открыл другу надежное средство, которое он измыслил, чтобы вернуть ему любимую; Теобальду совет Альбана показался столь созвучен сокровеннейшим его чаяниям, что он ни на миг не усомнился в блестящем успехе и с верою исполнил все, что его друг полагал необходимым... Я знаю, Биккерт, - прервал себя Оттмар, - что ты хочешь теперь сказать, я чувствую твои муки, меня забавляет комическое отчаяние, с каким ты берешь стакан пунша, который так любезно подносит тебе Мария. Но прошу тебя, молчи, самое лучшее замечание - твоя кисло-сладкая усмешка, она куда лучше всякого слова, всякой поговорки, какую ты только можешь придумать, чтобы все мне испортить. Однако же то, что я вам сообщу, так прекрасно и так благотворно, что ты и сам непременно ощутишь душевнейшее участие. Итак, слушай внимательно, ну а вы, милый батюшка, тоже согласитесь, что я вполне держу свое слово.