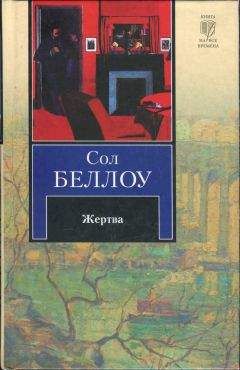Такая тягомотина продолжалась месяца два. Потом, поскольку с Гаркави все трудней становилось жить (несколько раз в неделю он приводил любовницу, и выпертому из комнаты Левенталю приходилось торчать то в кино, то в кафе), а деньги кончались, Левенталь решил соглашаться на все, хвататься за первое попавшееся — подумывал даже, не попытать ли ту гостиницу на Нижнем Бродвее — как вдруг получил от Уиллистона записку с просьбой зайти. Кто-то там у него заболел, вынужден ехать на зиму в Аризону, и Левенталь пока что может его замещать.
Так что это благодаря Уллистону Левенталь сделал первые шаги по своей стезе. Он был благодарен, работал не за страх, а за совесть и скоро заметил, что приобрел кой-какую хватку. С июня и до конца лета опять он болтался без дела — тоже трудный период. Но теперь у него был уже опыт, и он наконец устроился в «Берк — Бирд и компанию». И был доволен, только Бирд иногда портил кровь. А денег стало существенно больше, чем на гражданской службе.
Как-то, выворачивая душу наизнанку, он признался Мэри: «Мне повезло. Я продрался». Он имел в виду, что невыигрышное начало, собственные ошибки, все, что могло его угробить, как-то так сложилось, что он, наоборот, закалился. Он же чуть не смешался с той частью человечества, о которой часто раздумывал (так и не забыл свою гостиницу на Нижнем Бродвее), с теми, кто не продрался, — с потерянными, отверженными, униженными, перечеркнутыми, гиблыми.
У Левенталя недавно умер тесть, и близкие уговорили тещу продать дом в Балтиморе и переехать в Чарлстон, к сыну. Мэри поехала ей помогать со сборами.
Без нее Левенталь ел в таком ресторанчике по соседству. В нижнем этаже большого старого дома. На стенах почти дочерна потемневшая штукатурка. Древесно, влажно пахнет от рассыпанных по дощатому полу опилок. Но Левенталю ресторан подошел; дешево, да и не надо, как правило, дожидаться столика. Сегодня, правда, оказался только один свободный. Официант провел к нему Левенталя. В самом углу, за стенным выступом, и не доходит холодок вентилятора. Левенталь уперся было, уже раздраженно открыл рот, но смуглый официант со вспененным над потным лбом жидким зачесом его упредил, устало, довольно неискренне пожав плечами и круговым движением руки с полотенцем показав, что сегодня у них все забито. Левенталь смахнул шляпу, сдвинул тарелки и сел, далеко выдвинув локти. У кухонной приступки доедали свой ужин хозяин с женой. Она кинула узнающий взгляд Левенталю, он в ответ поерзал на стуле. Официант принес еду, омлет на щербатой и почернелой эмалированной тарелке с томатным, по краю застывшим соусом, салат, несколько баночных абрикосов. Он ел, и понемногу его отпустило. Кофе был сладкий, крепкий; он сглотнул даже гущу и, ставя чашку, вздохнул. Зажег сигару. Никто не дожидался этого столика, и Левенталь еще посидел немного, откинувшись, попыхивая, сомкнув пальцы на буйно заросшем затылке. Из кабака через дорогу летели гитарные стоны, высокие относило, басистые повторялись лениво.
Потом он сунул под блюдце чаевые и вышел.
В небе, как пламя в широкой печи у булочника, медлила алость; день, не спеша уходить, жарко зевал над береговой чернотою Джерси. Тускло лоснился Гудзон, и море небось не больше шпарит своим холодом, думалось Левенталю, чем шпарит жаром подземка у него под ногами; под решетками, вдоль темных скошенных стен, под взрывы металлической ныли там проносятся поезда. Он прошел небольшим сквером, куда втиснулись полукругом два ряда скамеек. К каждой колонке тянулась очередь, нагретая вода брызгалась, скакала в каменных чашах. Вокруг зеленого сквера летели, летели автомобили; автобусы, грузно, со стоном, сползали от синего прямоугольника света в пролете улицы в ее синюшную бледность. По тенистым уголкам, под деревьями, играла, визжа, детвора, а поблизости, на тротуаре, барабанили, дудели и пели «возрожденцы»[2]. Левенталь в этом сквере не стал засиживаться. Побрел домой. Намешать себе чего-нибудь холодненького — и лечь у окна.
Квартира у Левенталя была большая. Точно такая же, но в квартале получше и пониже на три этажа, обходилась бы вдвое дороже. Только вот лестница эта — узкая, душная, коленчатая. Он медленно поднимался, а все равно, добравшись до четвертого, запыхался, и сердце колотилось как бешеное. Постоял немного перед запертой дверью. Войдя, сразу скинул плащ, бросился на покрытую ковром низенькую тахту в гостиной. Кое-какие кресла Мэри рассовала по углам и простынями прикрыла. Не очень надеялась, что он будет исправно закрывать на день окна, сдвигать шторы, спускать жалюзи. Сегодня была уборщица, запах стирального порошка лез Левенталю в ноздри. Он встал, открыл окно. Шторы разок вздохнули, снова вяло обвисли. Напротив через дорогу ядовито пылала ламповыми бусинами киношка; на крыше тяжело покосился в козлах чан с водой. Зонты над трубами, отвечавшие грохотом на малейший порыв воздуха, теперь немо застыли.
Очнулся мотор холодильника. Поддоны для льда, пустые, гремели. Вильма, уборщица, разморозила холодильник, а воду в них не налила. Он поискал бутылку пива которую вчера заприметил; пива не было. Ничего не было, только лимонов несколько и пакет молока. Он выпил стакан молока, освежился. Уже снял рубашку, сидел на краю постели, расшнуровывал ботинки, но тут вдруг коротко тявкнул звонок. Левенталь бросился к двери, распахнул, заорал: «Кто там?» Квартира была непереносимо пуста. Хорошо бы это кто-то вспомнил, что Мэри уехала, заскочил к нему на огонек. Снизу не отвечали. Он снова крикнул, теряя терпение. Конечно, человек просто мог нажать не на ту кнопку, но и другие двери не открывались. Хулиганы? Нашли время. Никто не поднимался по лестнице, и тоска взялась с новой силой глодать Левенталя, когда он понял, до чего размечтался о залетном госте. Он вытянулся на тахте, вытащил из-под ковра подушку, взбил. Решил вздремнуть. А чуть попозже вдруг уже стоял у окна и обеими руками сжимал штору. Он же определенно спал. Но часы на ночном столике, жужжа, показывали полдевятого. Всего пять минут прошло.
Нет, не надо было срываться, сам с собой рассуждал Левенталь. Сердце сжали отвратительные предчувствия. Глупость, и зачем было так выскакивать из конторы. Что стоило — немножечко пораскинуть мозгами и подождать до вечера? Всего пять минут, Елена же перезвонила. Так почему было не подождать? Только чтоб повыпендриваться перед Бирдом — взял и ушел? Нет, хотя замечаньице Бирда было, конечно, гнусное. Но разве это новость? Он же все время знал, что Бирд на это способен. Если кто-то тебя не любит, он тебя не любит, а причина найдется. Но все равно — зачем надо было уходить? Он умылся, надел рубашку и вышел на лестницу. Вся беда в том, он думал, что, когда ему некогда соображать, когда на него давят, он ведет себя как полный идиот. Вот что обидно. На той неделе, например, в типографии Данхил, линотипщик, всучил ему абсолютно ненужный билет. Он объяснял, что не любит зрелищ, что один билет ему и даром не нужен — Мэри тогда еще не уехала. Но Данхил привязался, и он купил у него этот билет. Потом одной девушке отдал, в своей конторе. А надо было сразу взять и сказать: «Я не буду покупать ваш билет»… Он пробурчал: «И зачем только я это делаю?» — и насупился. Вышел сосед, в шортах, грудь нараспашку, выставил звякнувшую сумку: бутылки для мусорщика.
Комендант, пуэрториканец мистер Нуньес — соломенная шляпа, темные ноги в китайских соломенных шлепанцах, — сидел у входа. Левенталь спросил, не заметил ли он, звонил кто-нибудь в звонок, и мистер Нуньес ответил, что уже полчаса тут сидит и за последние пятнадцать минут никто не выходил, не входил.
— Может, это вы радио слышали, — была его догадка. — Иной раз я думаю, кто-то дома со мной говорит, а это по радио где-то.
— Нет, это в звонок звонили, — не сдавался Левенталь; он вдумчиво оглядывал коменданта. — Может быть, это ваш был звонок?
— Если только кто баловал в подъезде. Сам я сегодня не звонил.
Левенталь потащился в парк. Вдруг действительно радио, хотя вряд ли. Может, там с проводкой что-то, из-за жары — пойди разберись с этим электричеством — или у Нуньеса со звонком. Дело хуже, если все это нервы и звонок ему просто прибрендился, как показалось, что спал. Да, вот Мэри уехала, и нервы у него сдали. На всю ночь оставляет свет в ванной. Уж вчера самому стыдно стало, закрыл эту дверь, как ложился в постель, а свет все равно оставил. Полный бред — бояться, что, пока спишь, тебя подстерегает опасность. Но это еще что! Померещилось, что вдоль стен мечутся мыши. Мыши в квартире есть, конечно. Дом старый; почему не пристроиться под полом? И он же их вообще не боится, а вот — начал в ужасе вертеть головой. Теперь невозможно заснуть. Раньше жара спать не мешала. Нет, нервы ни к черту, ни к черту.
В парке толклось еще больше народу, стало еще шумней. Еще одна компания «возрожденцев» наяривала на другом углу. Рев труб, смешиваясь, перекрывал все остальные звуки. Желтели облепленные мотыльками и мошкарой фонари. У дорожки чистил обувь старик в панаме, загорелый, жилистый. Зеленовато, свинцово посверкивая, прыгал фонтан. Под присмотром мамаш брызгалась, мокла полуголая ребятня. Все глаза теперь были мягче, чем днем, и больше, и задерживали на тебе взгляд, будто темная жара заполняет зазор отчужденья, и можно запросто заговорить с незнакомым. Посмотришь на человека, и кажется тебе, что ты его знаешь.