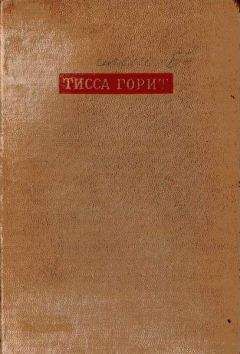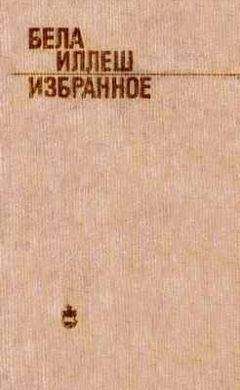«Хунгария» называлась теперь «Сокол» и была далеко не такой великолепной, как я того ожидал, судя по описаниям Анталфи. При этом в ней было довольно дорого: комната с двумя кроватями стоила тринадцать крон в сутки. Мы быстро умылись и отправились в столовую.
В столовой было почти пусто. В одном углу играл цыганский оркестр. За большим столом сидели, попивая шампанское, чешские офицеры в обществе чрезвычайно накрашенных женщин. В другом углу за кружкой пива сидел в одиночестве одетый в черное посетитель и, положив локти на стол, слушал музыку. Остальные столики тщетно дожидались гостей. Со стены против входа на нас глядели портреты Массарика и Вильсона.
— В честь чешской демократии я закажу себе клецки, — заявил Анталфи, просмотрев меню, — и тебе советую то же самое. И чтобы быть лойяльным чехом, буду пить пильзенское пиво.
Мы принялись за еду. Когда настало время расплачиваться, Анталфи вынул двухвостую стокронную бумажку. Официант осмотрел ее со всех сторон, вынул из кармана увеличительное стекло, еще раз внимательно исследовал двухвостого льва, покачал головой и положил бумажку на стол.
— Фальшивая, — сказал он.
— Как может быть она фальшивой, чорт вас возьми? — рассердился Анталфи. — Не видите вы, что у этого льва два хвоста?
— Вы, господа — иностранцы, — ответил официант. — Штемпель фальшивый. Здесь в ходу теперь очень много денег с фальшивым штемпелем, но такой грубой подделки еще ни разу не приходилось видеть. Это венгерская работа — венгры хотят таким способом понизить стоимость чешских денег.
— У меня и впрямь других занятий нет, как понижать стоимость чешских денег! Ну, все равно. Вот другие сто крон. Надеюсь, эти-то уж не фальшивые?
— Эти тоже фальшивые.
Через несколько минут выяснилось, что бородатый железнодорожник подсунул нам только такие деньги, которыми венгры собираются обесценить чешскую валюту.
По кивку официанта посетитель в черном оставил свою кружку и подошел к нашему столу.
— Следуйте за мной, господа, — сказал он после того, как тоже рассмотрел наши кроны через увеличительное стекло.
— А с кем мы имеем честь?.. — спросил Анталфи.
Тот показал ему свой полицейский значок.
Мы на извозчике отправились в полицейское управление. Сыщик уплатил извозчику одной из наших фальшивых стокронных бумажек, а полученную сдачу положил к нашим деньгам, конфискованным в качестве фальшивых. Поступить таким образом он имел, как потом выяснилось, полное основание, потому что деньги, полученные от извозчика, были такие же фальшивые, как и та стокронная бумажка, которой сыщик уплатил ему.
Дежурный полицейский офицер в одном жилете играл в карты с двумя офицерами. Когда сыщик ввел нас в утопавшую в табачном дыму комнату, полицейский офицер на минуту отвел взгляд от карт, но затем совершенно спокойно принялся доигрывать.
Он выиграл, забрал деньги, налил вина в стоявшие на столе три стакана, чокнулся с обоими офицерами, выпил и только тогда обернулся к нам.
— Ну, в чем дело? — спросил он сыщика.
— Фальшивомонетчики, — ответил тот. — У них тысяча с чем-то крон.
— Арестовать, — распорядился полицейский и снова обернулся к своим партнерам: — Ну, вам сдавать…
Арестный дом оказался очень неприятным местом, но тем приятнее показались нам находившиеся там люди. В камере помещалось четыре соломенных матраца, одно ведро и двадцать арестованных — мужчин и женщин вместе.
— Политический или?.. — спросила женщина с крашеными рыжими волосами. Она сидела на высоком подоконнике, болтая ногами в шелковых чулках.
— А если политический, то какого направления? — поинтересовался молодой человек, одетый в спортивный костюм и соломенную шляпу.
— Фальшивомонетчики, — спокойно ответил Анталфи.
— А папирос принесли? — спросила женщина.
— Все отобрали. Как здесь живется?
— Ничего себе, — ответил невзрачный смуглый человек в солдатском мундире и штатской шляпе. — Эта камера — только проходная комната на день, на два. Большевиков увозят обратно в Венгрию, тех, кто работали для венгерских белых, отправляют в Чехию, а профессионалов, все равно каких, — громил или даже убийц — распределяют между Венгрией и Румынией. Если вас поймали с такими фальшивыми деньгами, какие печатал Бела Кун, то вас отправят обратно в Венгрию, а на ваших документах отметят, что вы распяли нитрского епископа. Если же вы получили фальшивые деньги от венгерских белых, вас отошлют в Румынию и вам в документах впишут, что вы формировали добровольческий отряд против Румынии.
— Что вы, что вы, — сухо сказал Анталфи, — мы самые настоящие фальшивомонетчики!
— Какое это имеет значение? — возразил тот. — В Чехии теперь все фальшивомонетчики. Разница только в том, что один все делает оптом, а другой в розницу. Большинство проигрывает. Если вам когда-нибудь попадутся в руки настоящие деньги, то присмотритесь к ним хорошенько: лев на них не оранжевый и не лимонно-желтый, а какого-то промежуточного цвета. На бумажках, выпущенных Бела Куном, лев — лимонно-желтый, на бумажках же, подделанных белыми, — оранжевый, у поляков — цвета соломы, а у румын он вышел красноватым. Слов нет, найти настоящий цвет, — дело совсем не легкое, но все же, поверьте, не так уж трудно, как это кажется вам, иностранцам. Не желаете ли, господа, папироску?
— Будьте так добры… Вы тоже фальшивомонетчик?
— Меня в этом обвиняют. Но можете мне поверить — это вздорное, ни на чем не основанное обвинение: на суде я, несомненно, буду оправдан. Надо вам сказать, что всего два дня тому назад я еще состоял главным контролером государственной кассы по обмену денежных знаков. Скажите мне, господа, какого цвета был ваш лев?
— А чорт его знает! Все, что я знаю, — это, что у него было два хвоста!
— Это не признак. У всех львов в республике два хвоста.
— Прошу всех на минуточку отвернуться, — крикнула нам сидевшая на подоконнике женщина в шелковых чулках, — мне надо сесть на ведро.
Я лежал на голом полу рядом с Анталфи. Политические споры смолкли, и в ночной тишине раздавались лишь громкий храп да заглушенный плач женщины в шелковых чулках.
— Если придется худо, — шепнул мне на ухо Анталфи, — то мы — белые венгры, понял?
— Нет.
— Слушай. Если нас сочтут за белых, то белым нас, надо думать, не выдадут. А это пока что важнее всего. Одним словом, если придется плохо…
— Понимаю.
— Я капитан, а ты подпоручик.
— А по-моему, лучше всего было бы откровенно рассказать, каким образом достались нам эти деньги.
— Это было бы глупо, и мы этого не сделаем. Полицейский, самый что ни на есть тупой, и тот бы этому не поверил, да и мне, по правде говоря, стыдно. Одним словом, ты — венгерский подпоручик, а я — капитан. Увидишь, так будет лучше всего.
— Я таких вещей не люблю.
— Н-да-а, контрреволюция — это тебе не праздник… Потом, когда-нибудь… А теперь попробуем немного поспать. Спокойной ночи.
На следующий день время шло уже к полудню, когда нам в большом котле принесли завтрак. Это был черный кофе, приготовленный из знакомого уже нам кофейного суррогата военного времени, вонючий и горький. Полчаса спустя в том же котле принесли обед, такого же коричневого цвета, как и утренний кофе. Каков он был на вкус, я не знаю, потому что не успели еще мы приступить к еде, как дверь снова открылась.
— Новак, на допрос! Бескид, на допрос! — крикнул унтер-офицер легионер.
Пока Анталфи был на допросе, я ждал в передней. Присесть было некуда. Я ходил взад и вперед. Затем, сильно утомленный бессонной ночью, я прислонился к стене и стал рассматривать висевшие на стене друг против друга портреты императора Франца-Иосифа и Вильсона. Угрюмый, краснорожий чешский жандарм сторожил меня. Ни в какие разговоры со мной он не пускался. Быть может, причина тому коренилась не в отсутствии желания, а в том, что он ни слова не понимал по-венгерски.
Дверь в комнату, где допрашивали Анталфи, не была обита, и до меня таким образом доносился голос моего товарища, но разобрать, о чем шел разговор, я не мог.
Прошло больше часа, когда дверь, наконец, открылась и появился долговязый, худощавый жандармский ротмистр.
— Входите, господин подпоручик, — сказал он, кивнув мне.
— Я?!
— Да, вы, господин подпоручик.
Я оглянулся, отыскивая глазами того, к кому он мог обращаться. Ротмистр подошел ко мне и положил мне руку на плечо.
— Отпираться не имеет никакого смысла, господин подпоручик. Мы все знаем.
Я, пожалуй, все еще не тронулся бы с места, если бы жандармский ротмистр с почти нежной настойчивостью не заставил меня войти в соседнюю комнату, где происходил допрос Анталфи.
Он сказал что-то по-чешски жандармскому капралу, который, стоя навытяжку, отдал честь. Ротмистр закрыл дверь.