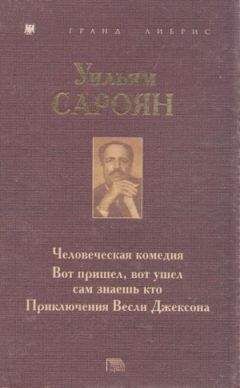Чудесные деньки шли один за другим, и мы с Джиль были так счастливы, что нам просто не верилось, что это правда. Приду, бывало, домой, а она сидит на кухне и плачет, как дурочка. Я спрашиваю, что это с ней, а она мне говорит:
- Никогда мне и не снилось, что я могу быть так счастлива. Никогда не думала, что можно так полюбить человека, как я тебя люблю, но, когда я вижу тебя, я чувствую, что ты меня любишь еще больше, и от этого я делаюсь такой счастливой - кажется, что все это мне снится. Живу, как во сне, - а вот мама... Ну какое счастье она, бедная, видела в жизни?
Я сказал Джиль, чтобы она взяла из банка двадцать пять фунтов и съездила навестить мать, но она все не решалась. Я уговаривал ее целую неделю, пока она наконец не согласилась. Я знал, что ее мать будет очень счастлива, если она приедет, а я хотел, чтобы все, кого мы знаем, были счастливы. Да и самой Джиль, конечно, приятно побывать у своих. Я ей сказал, что, когда мне перепадут какие-нибудь деньги, я пошлю их ее матери. А пока, сказал я, я буду посылать ей через банк, скажем, пять фунтов в неделю. Это немного, но для ее матери кое-что будет значить. Так я и сделал. Когда Джиль вернулась из первой поездки к родным, она мне рассказала, как была счастлива ее мать, и как гордилась своей дочкой, и как обрадовалась, узнав, что Джиль ждет ребенка. До чего же был счастлив я сам, услышав все это. Я сказал Джиль, чтобы она навещала мать хотя бы раз в две недели. И каждый раз, побывав у матери, она казалась еще счастливее.
Говорят, что семейное счастье - конец всему. Говорят, когда парень женится на девушке - это уже все, конец. Но вы не верьте этому, это не так, это вовсе не конец, а только начало; ничто не начинается до тех пор, пока парень не женится на девушке, пока она не забеременеет и не станет расцветать с каждым днем, пока сердце парня не наполнится до краев любовью к ней, и к жизни внутри нее, и ко всему окружающему. Это только начало, а вовсе не конец. Когда парень и девушка принадлежат друг другу, когда они составляют одно, только тогда и начинается настоящая жизнь, и нет ей конца и края; и, естественно, здесь не может быть никакого конца, раз они вместе и составляют одно, ибо это в природе вещей, в этом вся суть, весь шум из-за этого; это смерть получила коленкой под зад, это жизнь несется, хлопая крыльями; рождество наступило, рай на земле, все поет и танцует, речка смеется, океан разливается счастьем, ветер встречает всех поцелуями, небо раскрыло объятья, деревья пляшут от радости, камень протяжно гудит, ночь уходит с ласковым шепотом - ясный день наступает.
Если найдутся люди, которые вам скажут, что семейное счастье - это конец, если скажут, что от него тупеют, что ничего хорошего оно не дает - ни силы, ни знания, - не верьте им: они не изведали счастья. Если они вам скажут: поцелуи - удел дураков, - отвечайте: это ложь. Если они вам скажут: обожание - удел глупцов, - назовите их сукиными детьми и скажите, что они лгут. Они вам скажут: нежность - это слабость, - а вы ответьте: вы не мужчины. Они вам скажут: боль выше наслаждения, - отвечайте: нет, как раз наоборот. Хорошее - это начало. Плохое - это еще не конец, это просто помеха. Все истинное бессмертно. Ничто так не истинно, как любовь. Виктор Тоска знал это. Джо Фоксхол - тоже. Любовь - это вершина всего. Это высшая величина: одна и единственная. Это три, семь, девять, одиннадцать и все остальные величины, слитые вместе в одно чудесное целое. Любите бога. Любите жену свою. Любите сына своего. Любите ближнего своего. Любите врага своего этого сукина сына, - любите, чтобы там ни было. Дайте бедняге возможность исправиться - любите его.
ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ СЕДЬМАЯ
Весли и Джиль встречают святого на Фицрой-сквер
Как-то утром в воскресенье мы с Джиль пошли погулять. Дойдя до Фицрой-сквер, мы увидели какого-то человека в длинном сюртуке, который стоял посреди улицы и проповедовал. Это был человек среднего роста, лет пятидесяти пяти, с крупной седой головой. Одежда на нем была рваная, на голове - старая потрепанная шляпа, которую он то и дело снимал. Еще не видя его, мы услышали его голос и поняли, что это святой. Я никогда не слышал такого волнующего голоса. Никогда не слышал такого великолепного сочетания благородного гнева с мягкостью и задушевностью. Джиль испугалась этого человека, да и я боялся подходить к нему слишком близко. Не то чтобы мы приняли его за сумасшедшего, хотя это было нетрудно, - нет, просто его гнев был так величествен, что казалось, он не был жителем нашей ничтожной планеты, а лишь случайно забрел к нам, на эти улицы, из иного, лучшего мира, и он ужаснулся при виде нашей жалкой жизни - ее низости, жадности, мелочных дрязг, убого тщеславия. Он был так громогласен, словно лучшим его другом был не кто иной, как сам господь бог. Голос его покорял сердца.
Ну что ж, Лондон есть Лондон, в нем полно всяких странных и удивительных людей. Я взял Джиль под руку, мы остановились шагах в двадцати от этого человека и стали слушать. Люди пробуждались от воскресного сна, поднимались с постели, подходили к окнам, бросали взгляд на проповедника и возвращались к своим делам.
Время от времени он прерывал свою речь и запевал какой-нибудь псалом. Потом снова гремел на всю улицу:
- Вставайте, жители вероломного мира! Вставайте, павшие духом, и исцелитесь! Потом пел несколько строк из другой, пришедшей ему в голову песни:
О сын лучезарный рассветшего утра!
Погрязшим во мгле протяни свою длань!
И снова восклицал громогласно:
- Восстаньте ото сна! Пробудитесь! Встречайте благодатное утро! Зачем выбирать стезю смерти, когда стезя жизни от тебя в двух шагах! Вставайте вы, мертвые, - вставайте и возродитесь!
И опять пел:
Во славу божью хор звенит,
И громок общий глас.
Пускай на разных языках,
Но песнь одна у нас.
Когда он дошел до слова "громок", он проревел его громче всех других слов песни. Обитатели домов, видимо, почувствовали, какое величие низошло на их улицу, потому что, не умея придумать ничего лучшего, стали заворачивать в бумажку монеты и бросать их в окно.
В Лондоне я видел много людей, которые распевают на улицах, чтобы получить подаяние. Когда им бросают монету в бумажке, они торопятся ее поднять, но этот человек так не делал. Разумеется, он подбирал деньги, но не раньше, чем находил это нужным. Без денег, конечно, не проживешь, но не для этого он вышел на улицу. Случалось, народ бросал ему деньги, и случалось, он их собирал, но он не был нищим. Он был святой. Человек праведной жизни.
Мало-помалу он приблизился к нам. Я видел, что Джиль перестала бояться, и заговорил с ним. Он сказал, что его зовут Берри и что вот уже больше двадцати лет ходит он по улицам Лондона и взывает к народу. Ему было почти шестьдесят. Он сказал, что верит не только в бога, но и во всех хороших людей, набожных и вообще всяких. Он веровал во все, что может пробудить людей к жизни, поднять их из бедности, лени и косности, направить к истине, красоте и величию, избавить от ужасной душевной путаницы и смятения, излечить от недугов. Он стоял за все, что может помочь возрождению жизни.
Я спросил его, не был ли он актером - ведь он так великолепно владеет своим голосом. Это его неприятно поразило. Конечно, он не был актером, сказал он. Разве найдется такой театр, который мог бы вместить его голос?
- Теперь, - сказал он, - я опять поговорю и спою, а вы слушайте.
Он перешел на соседний перекресток, и голос его звучал все громче и громче, пока мы с Джиль не услышали в нем великого зова истины. Он обернулся к нам и так же громко сказал:
- Ни один театр в мире не может вместить такой голос, но в Англии я везде дома.
ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ВОСЬМАЯ
Писатель знакомится со святым из Фицрой-сквер и толкует с Весли о деньгах и нравах
Я был уверен, что писателю будет интересно узнать об этом человеке и послушать его голос, и поэтому, когда он кончил свою проповедь и подошел опять к нам, я попросил его прийти на следующий день к дому, где находилась наша контора, чтобы мы могли послушать его там. Он обещал. На следующий день часа в три я услышал его голос и стал с любопытством ждать, что будет делать писатель.
Он послушал с минуту. Потом встал и открыл окно. Еще через минуту он поспешно выбежал из конторы. Я увидел его в окно, он стоял на улице и ждал, когда сможет заговорить с проповедником. Наконец тот кончил свою речь, писатель сунул ему что-то в руку, и они немного поговорили. Потом писатель стал в сторонку, а проповедник опять обратился к народу. Прохожие останавливались послушать. Этот человек завораживал их своим голосом, своими словами. Писатель наблюдал за людьми. Все бросали проповеднику деньги. Он простоял перед нашим домом минут сорок пять, и ему все время подавали. Я боялся, как бы с ним не случилось какой- нибудь беды от такого успеха. Он собрал, наверно, фунта три или четыре, а то и больше. Я подумал, не совершил ли я ужасной ошибки, пригласив его сюда, ведь праведному человеку не годится попадать в положение, когда познаешь свой успех в такой грубой форме, как деньги. Величие этого человека настолько было связано с его отчужденностью от мирской суеты, что я испугался, как бы успех не соблазнил его, не осквернил его душу, не разрушил его величия, не заставил его думать о ничтожных вещах.