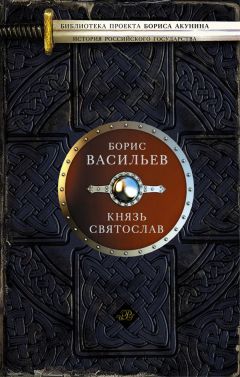- Правда, - сказала она, подумав, - он не может внушить такой пламенной, безумной страсти, как мой Виктор, но все-таки я думала, что ты влюблена в него.
- Не влюблена, хоть и очень люблю его. Да, вероятно, и он питает ко мне одну дружбу.
- Конечно, он не глядел на тебя таким страстным взглядом, как способен глядеть Виктор, но это оттого, что у него другой характер, другая натура. После нашей встречи в монастыре я замечаю, что он сделался печальнее, задумчивее.
Мы хотели уже идти, как в дверях моей комнаты показалась закутанная фигура, в которой через минуту я узнала Марью Ивановну. Это был вечер сюрпризов.
Я бросилась к ней и почти со слезами обняла ее.
- Марья Ивановна! как это вы надумали сюда приехать.
- Еду к своим гостить. Какой у нас, друг мой, пожар был! и моя хата сгорела.
- Неужели?
- Вот я и еду гостить, пока не выстрою новой. Тяжеленько, да как-нибудь Бог поможет, Яшка Косой будет строить. Уж я его на совесть подрядила. Вот был страх-то! Ведь в Амилове-то и дом, и флигеля сгорели. Загорелось, мать моя, в ткацкой, вечером. Ветер был сильный. Мы все обеспамятели; чем бы выносить - суемся в разные стороны… Катерина Никитишна у меня сидела. Как сидела, выбежала на двор с прялкой да: "Ай, батюшки, ай, батюшки!" - кружится на одном месте… А Федосья вынесла из дому подушку, да уж до того испугалась, что забыла, что покойницы маменьки давным-давно нет на свете, кричит: "Барыню-то не испугайте!". Такой переполох был!
Я горько заплакала.
- Ну вот, я думала насмешить ее, а она расплакалась… Ты-то как поживаешь? Похудела что-то. Видно, ах! прошли, прошли наши красны дни… Помнишь, как бывало Федя это пел, так за сердце и хватало! Да, моя радость, опустело Амилово… и дом сгорел. Смотреть тошно. А знаешь ли, кто покупает его? - Данаров. Уж и доверенного прислал. А сам, как слышно, в Петербурге.
Татьяна Петровна очень рада была Марье Ивановне и вскоре прислала просить ее к себе. Марья Ивановна приоделась и вышла в гостиную. Через несколько времени она уж сидела за картами и оживляла своих партнеров неизменною веселостью своего характера. Душина просила ее познакомиться с ними, потому что Татьяна Петровна решительно объявила, что она ее не отпустит скоро в дорогу.
Я передала Марье Ивановне о том, что Павел Иваныч находится здесь, и просила ее держать втайне то, что мы знали его прежде. Она торжественно обещала мне это.
Душины наняли квартиру в двух шагах от нас, и на другой день, после обеда, мы с Марьей Ивановной отправились к ним.
Танечка встретила нас в прихожей и, целуя меня, шепнула, что Павел Иваныч у них.
Хозяйка была нам очень рада, особенно Марье Ивановне, которая при встрече с Павлом Иванычем умела ловко и незаметно дать ему знать, что он должен смотреть на нее, как на незнакомую.
Хозяйка, Марья Ивановна, да еще какая-то подслеповатая старушка с безжизненною физиономией составили партию в преферанс; мы, то есть Танечка, я и Павел Иваныч, ушли в залу, довольно слабо освещенную одною лампой. Танечка села за фортепьяно; она играла хорошо и большею частью серьезные, печальные пьесы, которые шли к расположению ее души. Мы с Павлом Иванычем сидели поодаль.
До сих пор нам не удалось еще сказать друг другу ни слова.
- Здоровы ли вы, Евгения Александровна? - спросил он, устремив на меня взор, полный участия. - Вы так изменились, так бледны…
- Я не хворала.
- Но отчего же изменились вы? Вы страдали, у вас было какое-нибудь горе?
- Говорить о печальном - почти все равно что дважды переживать его.
- О, в таком случае не говорите, не рассказывайте… Странно, - сказал он, - я напротив рад был бы облегчить мою душу передачей другу того, что тревожит меня. Что это? скрытность с вашей стороны или недоверие? Во всяком случае простите меня, что я так неловко напросился на вашу откровенность! Но вы сами обещали ее, вы сами сказали в последнее наше свидание: "Вам будет принадлежать дружба взрослой…". Неужели прошло время даже и дружбы? Грустно! Впрочем, и я безумен…
- Наконец и между нами появились недомолвки, недоразумения! Это не только грустно для меня - это досадно.
- Кто ж виноват? я все тот же.
- Знаете ли вы, что иногда, несмотря на все желание высказаться, открыть все, что на душе, не достает сил, не достает уменья? Вы хотите знать, страдала ли я? Да, я страдала и измучилась одною самою странною, самою нелепою неприятностью.
- Опять любовь?
- Бог с ней, с любовью!
- Вы уж не верите в это чувство?
- Что до того, верю я или не верю? Но вы сами, любите ли вы кого-нибудь?
- Да, я люблю всею силой души моей…
- Дай Бог вам счастья, дай Бог вам не ошибиться!
- Счастье далеко; ошибке нет места, потому что я люблю безответно!
- А кто проповедовал Танечке?
- Проповедовать легко…
- Но тяжело то, что ваше сердце не оценено, не понято.
Он посмотрел на меня с выражением кроткой нежности и грусти.
Когда мы уезжали домой, Танечка и Павел Иваныч вышли провожать нас в прихожую. Последний подал мне мой салоп, очень нещеголеватый, и хотел непременно сам застегнуть его; при этом руки его слегка коснулись моей шеи - он вспыхнул, потом побледнел.
Он проводил нас на крыльцо и, несмотря на холод и наши просьбы не выходить, усадил нас в сани и смотрел нам вслед, пока мы не выехали за ворота.
Что это Татьяна Петровна так холодна к тебе? - сказала мне однажды Марья Ивановна. - Лизавету мою она больше любила. А ты, моя радость, угождай ей, что делать, хоть и тяжеленько. Принудь себя.
У меня невольно навернулись слезы.
- Да не вышло ли чего у вас? Что-то и дядюшка-то на тебя дуется…
- Ах, Марья Ивановна! Ничего вы не знаете!
- Да что? расскажи ты мне.
- Спросите Анфису Павловну.
Анфиса Павловна пересказала все Марье Ивановне и привела ее в сильное волнение и удивление. От души сожалела обо мне добрая Марья Ивановна и с каждым днем более и более принимала во мне участие.
Вскоре познакомился с нашим домом, через Душиных, и Павел Иваныч. Татьяне Петровне он понравился; она просила его посещать нас почаще и запросто, чем он и воспользовался.
Наши свидания и разговоры с ним принимали мало-помалу характер самой задушевной симпатии. Он уже не вызывал меня более на откровенность; но я чувствовала, что близ меня находится друг, который всегда с любовью и участием готов протянуть руку в опасную и тяжкую минуту. Он пристально и серьезно вглядывался в мою жизнь у Татьяны Петровны, ловил каждое, даже, по-видимому, ничтожное обстоятельство, которое могло разъяснить ему мое положение.
Дядюшка как-то притих и оставил свои попытки приобрести мою нежность, но в его обращении со мной было что-то суровое; какое-то затаенное, неприязненное чувство проглядывало во взглядах и словах, относившихся ко мне; случались и неприятности, и придирки, направленные на меня через тетушку.
Марья Ивановна тоже наблюдала за всем; но странно, что она не передавала мне своих замечаний.
Однажды Павел Иваныч у нас обедал, и после обеда, когда все отдыхали, он долго о чем-то разговаривал вполголоса с Марьей Ивановной, ходя по зале; я работала в другой комнате. Когда они подошли ко мне, он был бледен и взолнован и смотрел на меня с выражением сострадания и глубокой нежности. В продолжение вечера он был задумчивее и рассеяннее обыкновенного.
Марья Ивановна, ложась спать, сказала полусонным голосом: "Устрой тебя Господи!" - и вскоре уснула, потому что поздно окончила пульку с Татьяной Петровной.
Через несколько дней Душины пригласили Татьяну Петровну с мужем, Марью Ивановну и меня пить вечером чай.
У Душиных были гости, разумеется, не из блестящей губернской аристократии, потому что для таких надо было бы устроить роскошный вечер с музыкантами и угощением, и потому звать их часто было накладно. Тут были семейства помещиков, приехавших на зиму в город, чтобы вывести своих дочек раз или два в благородное собрание или на официальный бал у губернатора.
Устроились танцы под фортепьяно.
Я уединилась в небольшой комнатке, служившей кабинетом Танечке, и задумалась под звуки музыки.
Пришел Павел Иваныч.
- Какое счастье! - сказал он. - Я нахожу вас одну и как рад поговорить с вами! А сказать вам мне нужно многое, очень многое…
- Что такое? Я рада вас слушать.
- Не стану долее скрывать от вас; я знаю через Марью Ивановну, что вы несчастливы, что вы много терпите неприятного. Евгения Александровна! верите ли вы моему беспредельному участию, моей глубокой дружбе?
- О, конечно! вы единственный человек, которому я доверилась бы во всем.
- А если б я сказал вам, что… что… - голос его задрожал,- я люблю вас, поверите ли вы?..
Я смутилась, но отвечала: "Да".
- Помните, пять лет тому назад я сказал вам то же самое под тенью старой березы?
- Помню.
- Ваше сердце отвечало мне тогда; что-то скажет оно теперь? Никогда не решился бы я сделать вам подобное предложение, если б не был твердо убежден, что никто не будет так заботиться о вас, так любить вас! Что же смущает вас? Отчего вы молчите? Скажите мне всю правду, не стесняйтесь ничем: каков бы ни был ответ ваш, я останусь неизменным.