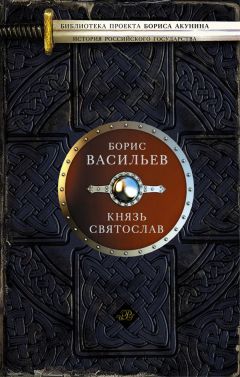- Как возьму я, да приколочу тебя! - произнесла вдруг Марья Ивановна. - О чем ты плачешь, сумасшедшая? Да и он-то, пес этакий, стоит ли, чтоб ты из-за него убивала себя! Он, я думаю, приехал домой да и забыл, что ты и на свете-то живешь; я думаю, у него уж давно другая в предмете. Чем бы тебе благодарить Бога, что Он посылает тебе в мужья хорошего человека, за которым ты будешь как за каменною стеной, - а ты убиваешься!
Долго успокаивала она меня, слезы также немало облегчили мне душу, и я вскоре уснула.
На другой день все вчерашнее показалось мне сном, а свидание с Павлом Иванычем еще более изгладило впечатление встречи моей с Данаровым. Танечке я не сказала ничего не потому, чтобы не доверяла ей, а потому, что боялась растравлять душевную рану, касаясь к ней воспоминанием.
Притом же приближался последний день моей девической жизни и веял на меня какою-то торжественною таинственностью, всею важностью нового, решительного шага, за которым меня ждала святая и строгая обязанность исполнения долга, ответственность за счастье человека, беззаветно вручавшего мне свое будущее.
XI
Наконец настал и день моей свадьбы, в который по принятому обычаю я не должна была видеть моего жениха до самого венчанья.
Утром Степанида Ивановна, возвратясь от ранней обедни, принесла мне просвиру и советовала целый день больше ничего не есть - поговеть, чтоб Бог послал счастье. Я беспрекословно исполнила совет ее. Мысли мои были точно парализованы, сердце будто окаменело. Мысли являлись и исчезали в голове, не производя на сердце никакого впечатления. Мне казалось, что часы били иначе, что в воздухе носилось что-то особенное, что надо мной произнесен непреложный, таинственный приговор судьбы.
В семь часов вечера Анна пришла в мою комнату, молча вынула из шкафа мое венчальное платье, взяла картон, в котором заключалась гирлянда искусственных померанцевых цветов, и скрылась. Марья Ивановна также притихла; Анфиса Павловна приходила не раз навестить меня, но я не расположена была пускаться с ней в разговоры. Она не сердилась. Вообще, все в доме показывали в этот день в отношении ко мне какое-то молчаливое снисхождение. Степанида Ивановна не бранилась с горничными, и в доме царствовала тишина ожидания чего-то выходящего из круга ежедневных впечатлений.
Наконец меня позвали к тетке. Она сидела в своей спальне, одетая парадно. Увидя меня, она прослезилась и указала место подле себя. Тут она дала мне несколько советов житейской мудрости - об умении вести себя, о долге жены, о терпении, смирении и кротости.
- Ежели я была с тобой строга, - сказала она в заключение тоном искренности, - то это оттого, что желала тебе добра.
- О, я не сомневалась в этом! - отвечала я и в невольном порыве неложной благодарности бросилась к ней на грудь.
Она обняла меня и снова прослезилась. Я тоже плакала, и казалось, под этими обоюдными слезами таяла ледяная кора, разлучавшая нас.
- Теперь, Генечка, когда ты готовишься к такому великому таинству, решающему твою участь, ты должна смириться и не иметь зла ни против кого. Ты не любишь дядю -это грешно. Поди к нему, попроси у него прощения и помирись. Пойдем, я сама тебя доведу до кабинета.
Я последовала за ней. В другое время меня, может быть, возмутила бы мысль просить прощения у этого человека, но туг мне казалось, что я исполняю должное. В эти памятные, торжественные минуты мне хотелось вынести из этого дома впечатление мира и любви.
Дядя лежал на диване, спиной к дверям, и курил. Свет от свечи падал на его полуседую голову и резкие черты.
- Кто тут? - спросил он, когда я вошла. Я отвечала. Он обернулся ко мне лицом.
- Что тебе надо?
Я хотела было отвечать, но он быстро перебил меня.
- Э, матушка, все глупости! Я не люблю этих ваших женских комедий. Пустяки, все пустяки! Пора тебе одеваться. Будь счастлива. Вот как узнаешь нужду, так и раскаешься, да поздно. Я тебе добра желал.
Я скрепила сердце и вышла. Татьяна Петровна стояла за дверями.
- Вот видишь, - сказала она, - к чему ты раздражала его своею холодностью? вообразила какую-то глупую ненависть в дяде. Можно ли это?.. Ну, теперь одевайся. Все приготовлено в портретной. Там и зеркало поставлено.
Я отворила дверь в портретную. Ярко освещенная, она потеряла свой обыкновенный, мрачный характер. Самые портреты глядели веселее; пудра и парадные мундиры казались свежее. Будто и эти неподвижные лица наших предков ожили, принарядились и хотели принять участие в важной перемене судьбы моей.
Я была уже почти одета, как вошла ко мне Танечка, тоже в белом платье, с розовыми лентами на голове. Она сама приколола мне цветы и вуаль и крепко поцеловала меня.
Я посмотрелась в зеркало и не вдруг узнала себя в венчальном наряде. Неотразимость действительности настоящего случая еще раз налегла на меня каким-то странным, оцепеняющим чувством, каким-то нравственным усыплением.
Как во сне вышла я в гостиную, где перед диваном, у стола, покрытого белою скатертью, на которой лежал образ, сияющий золотою ризой, сидела тетка рядом с дядей, окруженная Душиной, Марьей Ивановной и еще двумя или тремя дамами.
Как во сне приложилась я к образу, вышла со всеми вместе в залу, где накинули на меня шаль и нарядную шубу, крытую серым атласом. Как во сне поднялась я на каменные ступени освещенной церкви, где целая толпа устремила на меня тысячу любопытных глаз… Вскоре будто туман закрыл от меня эту толпу, я слышала только пение клироса, чувствовала, что стою перед "судом Божиим" об руку с человеком, избранным в вечные спутники остальной половины моего жизненного пути и вдруг сквозь этот туман сверкнули мне черные, магнетические глаза, обрисовалось знакомое бледное лицо… Но я уже не трепетала, не боялась. Надо мной веяло величие религии, благословение пастыря, а с высоты сиял божественный, кроткий лик Спасителя…
Когда из церкви карета подвезла нас к небольшому светленькому чистенькому домику, когда пахнуло на меня всею прелестью уютного, прочного пристанища, куда вошла я хозяйкой и любимою женой, когда обратилось ко мне восторженное, улыбающееся лицо моего мужа и все заговорили громко и весело, - я будто пробудилась, будто новая жизнь и новая сила наполнила меня, и не нашлось в душе места ни одной мрачной мысли, ни одному тяжелому предчувствию.
- Ну, теперь мы закутим, - сказала Марья Ивановна с торжествующим лицом, и в то же время появился слуга с подносом, уставленным бокалами с шампанским…
Повесть
Барышня! барышня, что вы делаете? ну как кто увидит! маменьке-то и скажут, как вы на вербу лазаете…
- Никто не увидит… ты посторожи. А и увидят, так не велика важность. Маменька поворчит, да такая же будет… Ах как весело, Матреша! далеко-далеко все видно кругом! Вон это вправо - ведь это нелюдовская церковь белеется… Там Яков Иваныч живет… Ах как крест на колокольне блестит, точно звездочка!
- Чу, и звон слышен, - сказала Матреша, - это образа поднимают в Макарове: завтра Иванов день, в Макарове веселье - пиво варили, гостей найдет ужо изо всех деревень… Хороводы, барышня, будут. Ах, кабы воля была, уж сбегала бы на праздник. Видно, так век-то и изживешь!..
- Попросись!
- Ой, куда! отпустят ли… будто вы не знаете. Да я и не посмею, ни за что не посмею! Господи! как люди-то на воле живут, точно птицы небесные - куда захотели, туда и полетели! а ты вот точно собака на привязи…
- Мне твоего не легче: я никого не вижу, нигде не бываю, да и негде - глухой наш угол! Я бы сама как птица полетела.
- Погодите, замуж выйдете, так будете сами себе госпожа.
- А как не выйду?
- Ну, не выйдете, так долго у маменьки под страхом будете… Батюшки! Арина Дмитревна идет! Слезайте скорей!
- Близко? - спросила барышня встревоженным голосом.
- Близко… Платье-то зацепили!
- Не изорвала? Нет, слава Богу!
Спустясь на землю с высокой вербы, Маша (так звали барышню), как ни в чем не бывало, пошла навстречу Арине Дмитревне.
Арина Дмитревна Снеткова была бедная соседка, проживавшая с незапамятных времен в крошечном деревянном домике сельца Калявина, наполненного такими же, или гораздо беднее, домиками мелкопоместных дворян, одичавших в невежестве, глуши и бедности. Арина Дмитревна по счастливому стечению обстоятельств была между ними, как они сами выражались, отметным соболем. Она в молодости бывала в "хороших домах" и до сих пор еще вносила в свой угол некоторый свет чрез свои посещения окрестных помещиков. И жила она с сынком своим Тимофеем Васильичем, или Тимой, как она называла его, позажиточнее других, потому что часто привозила с собой и чаек, и сахарок, и мучки, и крупки от своих благодетелей и милостивцев. Это была смуглая, сухая женщина среднего роста; парадный чепец ее отличался оригинальным желтым бантом, посаженным почти на самую маковку головы. Глядя на нее, никак нельзя было живо представить ее молодости: точно она такой и на свет произошла - с этим смуглым лицом, бойкими черными глазами и с этой ужимкой рта, показывающей хитрость и осторожность.