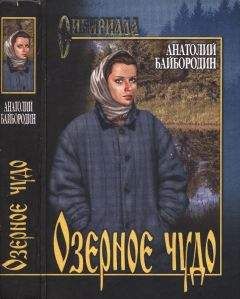Ознакомительная версия.
— Старик, анекдот про жидов… — Аркадий смешно закартавил. — Боря купается в море, мама Двойра кудахчет: «Боря, Боря, выйди из моря, я тебе мать, или тебе нет?!» А вот старенькая мама помирает, а Боря…уже таки почтенный жид… ожидает. И вдруг мама видит: птичка таки села на подоконник. «Птичка…» — мама Двойра указывает пальцем. «Ша, мамо, не отвлекайтесь…» — велит Боря. Похоронил-таки Боря маму. А вечером бежит по Дерибасовской девочек навестить, и ему падает кирпич… прямо-таки на голову. Боря посмотрел-таки в небо и сказал: «Мамо, Вы уже там?..»
Пили, поминали однокурсников, из коих двое, оказывается, с первого курса завербовались в сексоты — секретные сотрудники госбезопасности, где ныне и служили. Аркадий, отойдя от похмельной ломки, закурил чёрную трубку с тонко вырезанным бесом…лукавая ухмылка, стоячие ушки, кривые рожки… и по кухне поплыл синеватый душистый дым; хозяин небрежно ткнул клавишу магнитофона, и дым свился с расхлябанным, прокуренно-сиплым голосом тюремного урки:
На Дерибасовской открылася пивная,
Там собиралася компания блатная,
Там были девочки Маруся, Роза, Рая,
И с ними вместе Яшка Шмаровоз…
Там били девочек Марусю, Розу, Раю,
И бил их пьяный Яшка Шмаровоз.
Хозяин поднял стопку и манерно возгласил:
— Одесса-мама, Киев-папа, помните нас… А хочешь девочку, старик? — расщедрился приятель и, кивнув в глубь квартиры, опять заверил «глаза и уши». — У нас всё есть, нам ничего не надо… Спит. Для друга и дерьма не жалко… Желаешь?.. Жела-аешь, вижу по глазам.
— Ошибаешься, старик, не с голодного края…
«А может, оно и к лучшему, чтобы забыть… — в хмельном табачном мираже смутно увиделась Елена. — Клин клином выши-бают. Чего впустую мучиться. Было да сплыло. Не судьба…»
— Девушка поди старее поповой собаки?
— Обижаешь, начальник. Студентка-журналистка.
— Страшнее атомной войны?
— Девочка — сто пудов… — Аркадий замычал от удовольствия и, закрыв глаза в изнеможении, чмокнул пальцы, поросшие тёмным волосом.
— Самому не нужна?
— Нет. Припас для друга…
— Я серьёзно.
— Серьёзно… — Аркадий вздохнул и покачал головой. — Отвергла-таки. Не в её вкусе. Но перед тобой не устоит, красавчик. Даю голову на отрубление. Хотя… даром лишь сыр в мышеловке. С тебя причитается…
— Деньги?
— Ша, обижаешь, старик. С друзьёв денег не беру… Короче, я иконы собираю, чтоб не пропали по деревням…
— Коллекционер?
— Вроде того… Ты же по деревням колесишь, да и сам в деревне жил, родня осталась, знакомые. Поспрошай насчёт икон. Если надыбаешь, бери. Я в долгу не останусь. Сочтёмся.
— Бери даром?
— Ну, не совсем даром… Ладно, потом поговорим. Выпить надо… Кстати, старичок, такие я чудные иконы отхватил, — Аркадий привычно закатил глаза и поцеловал пальцы. — Шик. Бог мой, сколько я за ними по деревням мотался…
— Продать хочешь?
— Не то чтобы продать… Музеи же копейки дадут. Коллекционеры таки надуют. Для начала надо понять, какой век, оценить… Кстати, с минуты на минуту должен подвалить мужик из музея. Вчера созвонились…
Музейный мужик…лёгок на помине… явился, едва успели выпить; забренчал в дверной звонок и вошёл, медвежалый, смахивающий на деревенского увальня; ему, язвительно прикинул Игорь, впору бы корчевать тайгу под пашню, земелюшку орати, а не штаны в музее протирати. Неприязнь к музейному мужику оказалась не случайной: нравом и обличкой напомнил Уваровых, отца и сына. Русобородый, долгогривый и дородный, напомнил и семейских[63] мужиков, и сельских батюшек.
Коль мужик от угощения отказался, коллекционер повёл казать иконы: миновали зал, заставленный громоздкой мебелью, завернули в кабинет хозяина, где среди карточек с туманными, нагими девами, среди книжных шкафов висело десятка полтора писаных икон, светлых, буроватых и вовсе темных: лики Спаса Вседержителя, Божьей Матери с Богомладенцем, святителя Николы Чудотворца, Архангела Михаила, святого воителя Егория Храброго, Ильи-пророка, иных святых, о коих Игорь и слыхом не слыхивал.
Изрядно охмелевший…плеснул на старые дрожжи… Игорь равнодушно, почти невидяще, мельком глянул на иконы и отошел к высокому, резному шкафу, туго набитому книгами. Аркадий, с причмоком, сладко посасывая трубку, обволакивая чёрное, забородатевшее лицо клочьями дыма, рассусоливал о художниках-богомазах. Музейный мужик, морщась, как от зубной боли, катая под крылистыми скулами желваки, искоса поглядывал на говорливого хозяина, и взгляд откровенно говорил: невежда, чего ты метёшь языком, как помелом, самонадеянно рассуждаешь о том, в чём дуб дубом?!
— Да-а, улов добрый, — вздохнул мужик. — Врать не буду, есть и старинные иконы: конец семнадцатого, начало восемнадцатого века. Несколько икон, похоже, от староверов…
— Барахла не держим.
— Ясно. Хотя не понимаю я людей, которые иконы собирают и по квартирам прячут. Ладно бы молились… Я работаю в художественном музее, в отделе иконописи, но скажу честно, иконам не место и в музее.
— А где их место? — спросил Игорь ради беседы; и мужик, даже не поведя бровью в его сторону, отозвался в пустоту:
— В православных храмах, в домах, где в Бога верят. А в музеях — картины…
— А иконы разве не картины?! — тыча слюнявым чубуком трубки в Матерь Божию, заспорил коллекционер. — Картины!.. но вместо холста — доски. Своеобразная манера: народный примитив, библейские сюжеты. В стиле примитива писал-таки и Марк Шагал. Великое искусство…
— Да, у Шагала — искусство, великое не великое, бог весть. А в иконах — не искусство, в иконах Дух Божий. Живопись — чувственна, изображает, а иногда и воспевает, страсти дольнего мира… земного, а православная икона — не от мира сего, от мира горнего… неземного. Отчего изображение необъемно, нечувственно, похоже на сновидение…
— Ша, путаешь ты чего-то, старина, — сморщился Аркадий и книжно рассудил. — Икона — искусство, приобщает человека к красоте, а красота спасёт мир, изрёк писатель, популярный таки в прошлом веке.
— Красота… В Европе конкурсы красоты среди девиц, так что, голые девки спасут мир?
— А может, и спасут, — ухмыльнулся Аркадий в бороду.
— Бесовщина…
— Богоматерь — красавица, красоте Ее и молятся.
— О Господи! — мужик невольно перекрестился. — Чего вы мелете?! Дьявольщина… Красота спасёт мир… Да, писал Достоевский, но имел в виду лишь красоту души, где светится любовь к Вышнему и ближнему.
Тут в спор горячо встрял Игорь, переча музейному мужику, — не глянулся: ишь проповедник выискался, святоша без макинтоша, святее папы римского:
— Но есть живописные полотна и без библейских сюжетов, а и в них красота души, которая спасёт мир.
— Есть картины близкие иконе, — пояснил мужик, по-прежнему не глядя на Игоря, словно тот пыльное пятно на обоях, — и всё же не иконы, — чувственны, плотски, а в православной иконописи, особенно до раскола, лики бесплотны.
Музейщик…вития добрый… посокрушался: де, иконы — отеческое, русское, святое, — пошли в размен и торг, расфуговались по заморью, по кабинетам и глазельням, а законное их место в храмах православных, по благочестивым деревенским избам и домам смиренным…
— Да ты, старик, похоже, не музейный работник, — поп, — развеселился Аркадий. — Поди еще и верующий?
— Верую!
— О-о-о, что-то новенькое, час от часу не легче…
И вдруг Игорь, пристально вглядевшись в три иконы, вспомнил: подобные образа висели у бабки Христиньи Андриевской, тянувшей век с богомольной дочерью Ефросиньей в селе Аба-кумово, покорно кочующем на погост, напоминающем одряхлевший староверческий скит. Незадолго до упокоения бабки Хри-стиньи Игорь, о ту пору студент-выпускник, навестил её, а попутно и мать, которая уж год ухаживала за немощной старухой. Постоял, подпирая дверной косяк, посидел на лавке, но побоялся приблизиться, обнять бабку…а надо бы, худо-бедно, родня… испугавшись предсмертного вида: лицо — кожа до кости, глаза провалились в иссиня-чёрные глазницы, нос заострился, губы посинели, на впалых щеках ржавые пятна, восковые ладони, испещренные синими жилами, покойно уложены на груди, осталось лишь церковную свечку затеплить, умостив ее меж пальцев, костистых, могильно остывших.
Смутно вспомнилось, что старая Христинья наказывала Игоревой матери: «Дуся, упокойте меня подле Фросеньки; ох, кровиночка моя, раньше мамки к Богу отошла. Упокой, Господи, со святыми рабу Божию Ефросинью, праведно жила. Жди меня, Фросенька, жди, милая… ныне исповедуюсь, причащусь, и приду к тебе, доченька; жди меня, милая, жди и молись за мою душу грешную. Помру, Дуся, и ты молись обо мне, крещённая дак. Не поленись, в церкву сходи, закажи панихиду на помин души, свечечку поставь, да помолись во имя Отца, и Сына, и Святага Духа… Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешную… И христорадным ладно подай, не скупись, пусть помолятся за мой помин, за ваше здравие. Деньги, какие на книжке скопила, тебе отойдут… Особо в сорок дён молись — по мытарствам побреду, грешная, ангелы поведут, лукавые к себе поволокут. Ох, во грехах, как в шелках. Верно, без греха веку не изживёшь, день во грехах, ночь во слезах… Смёртную одёжу, Дуся, припасла — в комоде лежит, там и на помин скоплено… А вином не поминайте — грех… Избёнку Федосу отписала…со дня на день подскочит… а ты, Дуся, бери, чо надо: вон машинка добрая, браво шьёт…»
Ознакомительная версия.