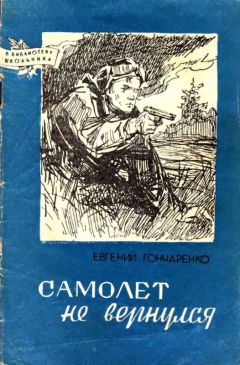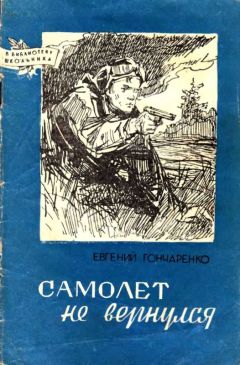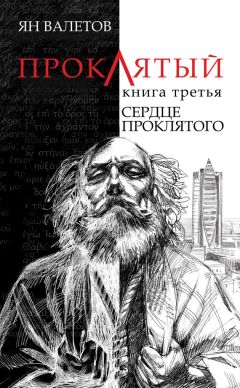Во второй половине дня Джулия напомнила по телефону, что они сегодня ужинают в гостях. А вскоре затем позвонил Трейс Бирден.
- Слушай, дружище, - сказал Трейс. - Тут миссис Томас просила. Знаешь, паренек ее, Клейтон, не устроится никак. Может, посодействуешь? Позвони Чарли Беллу - он ведь тебе обязан, - замолви словцо, и, я думаю, Чарли...
- Трейс, мне очень жаль, - сказал Франсис, - но за Клейтона я хлопотать не стану. Он законченный лоботряс. Звучит грубо, но это факт. Всякое сделанное ему добро обернется потом неприятностью. Он лоботряс закоренелый, и никуда от этого не денешься, Трейс. Устроим его - все равно через неделю уволят. Проверенный факт. Мне горько это, Трейс, но, чем хлопотать за Клейтона, я бы скорей счел себя обязанным предостеречь людей - тех, которые в память отца хотели бы, естественно, помочь сыну. Я бы счел себя обязанным предостеречь их, что он - вор...
Когда он положил трубку, вошла мисс Рейни.
- Я увольняюсь, мистер Уид, - сообщила она, подойдя к столу. - Если необходимо, я могу остаться у вас до семнадцатого, но мне предложили дивное место, и я хотела бы уволиться как можно скорей.
Она вышла, и Франсис остался один на один с сознанием того, какую свинью подложил сейчас Клейтону Томасу. Со стены дружно смеялись дети, снимок блестел: всеми яркими красками лета. Франсис вспомнил - на пляже они встретили волынщика, и тот за доллар сыграл им боевую песнь Королевского шотландского полка. А дома он опять застанет Энн. Опять убьет вечер в гостях у радушных соседей, перебирая в уме глухие улочки, тупики и подъездные аллеи нежилых особняков. И ничем не унять муки - ни детским смехом, ни игрой с детьми в софтбол. Перед ним встала вся цепь впечатлений - авария самолета, новая прислуга Фаркерсонов, Энн, обиженная пьяницей отцом, - которая неотвратимо привела его к этой беде. Да, он в беде. Однажды в северных лесах, возвращаясь с речки, где ловил форель, он заблудился, и теперь его угнетало то же чувство - как ни бодрись, ни крепись, ни храбрись и ни упорствуй, а все равно не найти в густеющих сумерках тропу, с которой он сбился. Запахло ночным лесом. Этот тусклый запах был невыносим, и Франсис отчетливо понял, что достиг точки, где придется сделать выбор.
Можно пойти к психиатру, как мисс Рейни. Можно пойти в церковь спасаться от похоти исповедью. Можно сходить здесь на Манхэттене в "датское массажное заведение" - знакомый коммивояжер дал как-то адресок. Можно овладеть Энн силой - или же надеяться, что случай убережет от этого. И можно напиться. От жизни, от плоти своей не уйдешь; он, как всякий мужчина, создан быть отцом тысяч - и какой кому вред от свидания, если оно позволит и ему и Энн радостней взглянуть на мир? Нет, это ложный ход мыслей, надо вернуться к первому варианту, к психиатру. У него был записан телефон врача, чьими услугами пользовалась мисс Рейни; он позвонил и попросил безотлагательно принять его. На службе он усвоил напористый тон, и, хотя секретарша врача сказала, что на ближайшие недели все уже заполнено, Франсис настоял на том, чтобы его приняли сегодня же, - и был записан на пять часов.
Здание, где обретался психиатр, почти все было занято кабинетами зубных и иных врачей, и в коридорах веяло конфетными запахами полосканий и памятью былой боли. Характер Франсиса формировался на решениях, принимаемых самостоятельно и в одиночку. Прыгнуть в воду с высокого трамплина, повторить, не струсив, смелый фортель, быть чистоплотным, не опаздывать, не лгать, не делать гадостей... Отказ от этой одинокой самостоятельности означал крушение его понятий о силе характера. Он был растерян, ошеломлен до отупения. Местом его теперешнего iniserere mei Deus [Помилуй меня, боже (лат.) - молитва кающегося грешника] была врачебная приемная, каких множество. Отдавая символическую дань прелестям домашнего уюта, ее уставили цветочными горшками, статуэтками, кофейными столиками и развесили гравюры с изображениями засыпанных снегом мостов и летящих гусей, хотя не было здесь - в этой грубой пародии на семейный очаг - ни детей, ни супружеского ложа, ни даже кухонной плиты, и в неприемные часы здесь было пусто, и зашторенные окна выходили на темный колодец двора. Франсис назвал секретарше свое имя и адрес - и увидел, что сбоку возник и направляется к нему полисмен.
- Стойте как стояли, - сказал полисмен. - Не двигайтесь. Руки держите как держали.
- Мне кажется, тут все в порядке, - начала секретарша. - Мне кажется, и так...
- А мы проверим, - сказал полисмен и принялся охлопывать костюм Франсиса, не спрятано ли у него там что. Пистолеты? Ножи? Ломик? Ничего не обнаружив, полисмен ушел, а секретарша, волнуясь, стала извиняться:
- По телефону ваш голос звучал очень возбужденно, мистер Уид, а один из пациентов доктора угрожал его убить, и мы вынуждены принимать меры предосторожности. Пожалуйста, пройдите в кабинет.
Франсис толкнул дверь докторского логова, раздался перезвон электрического колокольчика. Войдя, Франсис тяжело сел на кушетку, высморкался, полез в карман за сигаретами, за спичками - все равно за чем и сказал хрипло, со слезами на глазах:
- Я влюбился, доктор Герцог.
Шейди-Хилл неделю-полторы спустя. Электричка семь четырнадцать уже прошла, в домах кое-где кончили обедать, и тарелки уже в посудомоечной машине. Вечереет. Благополучие поселка, экономическое и моральное, висит на тонкой ниточке; но в вечернем этом свете ниточка держится, не рвется. Доналд Гослин снова терзает "Лунную сонату". Marcato ma sempre pianissimo! [Четко, но все время очень тихо! (итал.)] А Гослин точно мокрую банную простыню выжимает, но горничная не внемлет. Она пишет письмо Артуру Годфри [популярный в то время ведущий радио- и телепередач]. В подвале своего дома Франсис Уид сооружает кофейный столик. Доктор Герцог прописал столярную работу в качестве целительного средства, и простая арифметика размеров, безгрешный дух свежего дерева и впрямь действуют на Франсиса успокоительно. Франсис обрел утешение. Наверху плачет малыш Тоби - от усталости. Поплакав, он снимает с себя бахромчатую курточку, ковбойскую шляпу, перчатки, расстегивает ремень, весь в золоте и рубинах, в патронташиках с серебряными пулями и кобурах, спускает подтяжечки, сбрасывает ковбойку и джинсы и, присев на кровать, стягивает сапожки. Свалив всю эту сбрую в кучу, он идет к шкафу и снимает с крючка свой космический костюм. Влезть в узкие длинные штаны непросто, но он влезает. Пристегнув к плечам волшебный плащ и встав на приступку кровати, он раскрыливает руки и летит на пол; шлепается он так, что по всему дому слышно, - но Тоби увлечен полетом.
- Иди домой, Гертруда, иди домой, - говорит миссис Мастерсон. - Я уже час назад велела тебе идти домой, Гертруда. Тебя давно ждут ужинать, мама будет тревожиться. Иди домой!
У Бэбкоков распахивается дверь, и на террасу выскакивает раздетая миссис Бэбкок, а за ней вдогонку голый муж. (Их дети в школе-пансионе, а от соседей террасу заслоняет живая изгородь.) Они проносятся по террасе и скрываются за кухонной дверью, затмив красой и пылкостью всех нимф и сатиров с венецианских фресок. Срезая последние розы в саду, Джулия слышит, как старый мистер Никсон кричит на белок: "Жулье! Объедалы! Сгиньте с глаз!" Бредет мимо горемыка кот, страждущий духовно и физически. На голову его напялена кукольная соломенная шляпка, на туловище кукольное платье, застегнутое на все пуговицы, и торчит из подола длинный мохнатый хвост. Кот на ходу брезгливо отряхивает лапы, точно от воды.
- Кис, кис, кис, - зовет Джулия. - Кис, кис, бедная кисонька.
Но кот косится на нее скептически и ковыляет дальше. Последним является Юпитер, круша помидорные гряды, держа в зубастой пасти остатки дамской туфельки, Затем опускается ночь, и в этой ночи цари в золотых одеждах едут на слонах через горы.