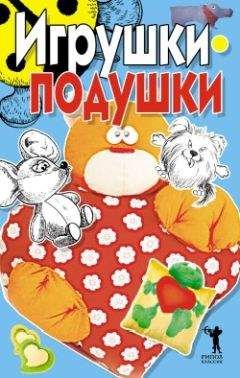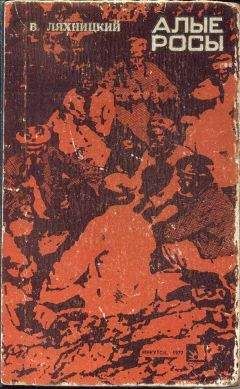Этот стол Егор увидел раньше, чем всё остальное. Раньше, чем людей, сидящих вокруг стола. Глотнул слюну. Шагнул вперёд и снова отступил к двери. Нерешительно затоптался на месте, оглушённый бестолковым шумом холостяцкой пирушки. Хозяин — высокий, статный, в расстёгнутом сюртуке — подошёл к Егору.
— Познакомьтесь, господа, это Егор, мой друг, мой… неизменный товарищ по таёжным скитаниям. — Голос у Ваницкого глубокий, бархатистый. Он говорит не спеша, с неожиданными паузами. Богатые интонации придают его словам особую весомость. Голос несильный, но рассёк шум как волноломом, разбил его на отдельные затихающие шумочки.
— Неизменный товарищ по таёжным скитаниям, — повторил ещё раз Ваницкий. — Прошу любить его так, как люблю его… я. Сысой Пантелеймонович, подай Егору стул.
Молодой купец в синей поддёвке, с бельмом на глазу, чуть пожав плечами, поставил стул у двери. Ваницкий резко переставил его к столу.
— В тайге я спал под Егоровым полушубком… Сысой Пантелеймонович.
«Ты-то сам кто?» — понял Сысой и, исправляя оплошность, пододвинул новому гостю тарелку, рюмку, салфетку.
— Мы с Аркадием Илларионычем запросто завсегда, — чванился Егор и робел. — Завсегда. По-мужицки. Вот и они подтвердят, Аркадий Илларионыч…
— Конечно, Егор. Давай закусывай, не стесняйся. Год мы с тобой не виделись. А ты постарел, старина. Живёшь-то как?
— Да как вам сказать, Аркадий Илларионыч, — оглядел гостей. Готовая вырваться жалоба в горле застряла. — Хорошо живу вроде, — и всхлипнул: — Лишь бы на хозяйские работы перевестись, а то…
— Водки хочешь? — перебил Ваницкий.
Благодарствую, Аркадий Илларионыч. Мы же чашны… Староверы, — кособокий клинышек бороды Егора вздрагивал на каждом слоге. «Не хочет о деле-то говорить. Подожду…»
— А медовухи?
— Это можно с устатку.
Хозяин налил в стакан медового пива. Протянул Егору.
— Благодарствую. Мне бы сюда, — вытащил из-за пазухи деревянную мисочку. Протянул. Выпил. — Эх, хороша.
— Ещё налить?
— Благодарствую, — а в голове одна мысль, как бы о деле заговорить.
— Закуси.
Егор снова глотнул слюну. Не пристало староверу скоромиться мирской пищей, да уж больно румяны лежат пироги. Попросил:
— Рази кусочек того, с краю… С рыбкой он?
— С рыбкой.
И только закусив пирогом, Егор увидел, что людей в комнате много. И всё господа.
— Ты, Аркадий Илларионович, шарики нам не крути, — говорил высокий, сухой, жилистый офицер, — Взялся доказывать, докажи. Двадцать шагов — это, брат, дудки.
— Дай прожевать Егору пирог.
— Пусть жует. А мы, г-господа, тем временем п-по маленькой, п-под икорочку. Эх, был бы коньяк да белый, хлеб, а икра, пусть будет чёрная. Нальём? Эй, эй! Аркадий Илларионович, отойди от мужика, не шепчи ему на ухо, а то всё равно не поверим. Ну-с, господа… залпом… пли…
Аркадий Илларионович отошёл к окну.
— Итак, господа, начнём. Егор! Поведай моим гостям, почему у тебя нет переднего зуба?
— Вы же сами знаете, батюшка Аркадий Илларионыч.
— Я-то знаю, а они вот не верят. Расскажи по порядку как было.
— Да што рассказывать. Повел я, значит, Аркадия Илларионыча на охоту. Ну, ходили мы, ходили, Я, значит, рябчиков маню, а они, значит, стреляют. Стали мы, конешным делом, ночёвку устраивать. Я эти самые постели гоношу, костёр разжигаю, а Аркадий-то Илларионыч так сбочку от меня на пеньке сидят, а во рту у меня… — Егор поёжился, — А во рту у меня, значит, трубка.
— Стоп, стоп! — перебил пристав. — Как же трубка? Ты же кержак?
— Грех, конешно. Но попривык на приисках. — Балуюсь порой крадучись. Особливо, ежели в тайге комары донимают.
— Ну продолжай.
— И тут бац. Не пойму я. Чубук вроде во рту, а трубки вроде бы нету. И на зубах хрустит. Плюнул — зуб. Это они, Аркадий Илларионыч, стрелять изволили и чубук у меня возле губ пулей перебили. Ну, значит, чубук-то заломило в зубах, и один не выдержал. Хрустнул. Вот он где был, — показывал Егор.
— Не врёшь?
— Как перед истинным богом. Мы же чашны, врать не умеем.
— Ну т-твоя взяла, Аркадий Илларионович. П-получай, — пристав достал из кармана бумажник. — Г-госпо-да, раскошеливайтесь. Умели спорить, умейте платить.
— Стойте! Дорогие мои! Тут ещё не всё ясно, — крикнул Сысой. — Тут ещё не всё ясно. Скажи-ка, Егор, а какое расстояние было от тебя до господина Ваницкого?
— Расстояние? — Да кто ж его мерил? Ну шагов, однако, пятнадцать.
— Прячьте бумажник, пристав. Господа, сколько говорил Аркадий Илларионыч было шагов?
— Двадцать. Двадцать, — зашумели вокруг.
— А тут выходит пятнадцать?
Егор не понял, о чем идёт спор. Он видел только, как покраснел хозяин, как неприязненно, зло он взглянул на Егора, и сердце ёкнуло: не потрафил, не угодил.
— Егор, да ты уснул, что ли? Егор, — кричал Ваницкий. — Я спрашиваю тебя, повторим?
— Што повторим, Аркадий Илларионыч?
— Ну это самое, с трубкой… Ты встанешь там, во дворе, а я выстрелю.
— Что вы, вашбродь, батюшка Аркадий Илларионыч. Такое один раз в жизни пережить и то хватит с лихвой.
— Трусишь?
— Да как вам сказать… Конешно, страшновато вроде бы малость.
И тут Егор заметил, что Ваницкий держит в руках зелёную хрустящую бумажку. Три рубля. Давно Егор не видел таких денег. Это, ежели по здешним ценам, целых шестьдесят фунтов хлеба. Пятерым, ежели с умом, целую неделю жить можно. А в землянке ждёт сват. И нечем его угостить. А угостить обязательно надо. Сват ведь. Родня. Вместе росли. Вместе бесштанной оравой по улице бегали.
Егор привстал со стула и потянулся за трешкой.
— Но-но, — остановил Аркадий Илларионович, — получишь, когда повторим.
— Так это я должен снова как тогда у костра?
— Конечно. Всего минута — и у тебя деньги. Может быть, тебе не надо денег?
— Што вы, ваше скородие, Аркадий Илларионыч, вот как бы надо… А ежели б ещё на хозяйские перевестись…
— О делах, Егор, к управляющему. Я дел не люблю. Ну, становись к забору — и трёшка твоя.
— Не замайте, Аркадий Илларионыч. Не могу.
Ваницкий достал бумажник. Егор весь подался вперёд. «Спрячет сейчас трёшку-то. Ить шестьдесят фунтов хлеба. Ежели мукой? А ежели муку намешать с колбой…» Но что это? Перед глазами снова пальцы хозяина. И в них две трехрублевые бумажки.
— Я понимаю, страшно стоять и глядеть на ствол, — говорил Ваницкий. — А ты зажмурься и всё. Налить тебе… медовухи?
— Сделайте милость.
На этот раз Егор не просил налить в деревянную мисочку, а пил прямо из стакана. В голове шумело. А перед самыми глазами мелькали зелёненькие бумажки. Две. Нет, не две, а вот уже три.
— Эх, — хлопнул Егор шапкой об пол. — Была не была.
— Господа, выходите во двор. Сейчас убедитесь. Пристав, отмеряй шаги, а я заряжу штуцер. Может, Егор, ещё опрокинешь стаканчик?
— Будя. Только вы, хозяин Аркадий Илларионыч, приложите ещё. Для ровного счету.
— Десятку, значит? Хо-хо, плут ты, Егор. Будь по твоему. Округлю.
…Очень трудно стоять спокойно, когда на тебя наводят ружье. Пришлось крепко прижаться спиной к столбу, и всё же ноги у Егора подкашивались. Надо стоять точно в профиль. Надо, чтоб трубка не дрожала в зубах. Надо не смотреть, как хозяин медленно поднимает штуцер. Зажмуриться. А глаза не слушаются, косят и видят чёрный зрачок. Он кажется непомерно большим и направлен прямо в висок.
На высоком резном крыльце мечется толстая кухарка. Она хватает за руку то одного из гостей, то другого.
— Господа хорошие, чего же такое делается на божьем-то свете? Среди бела дня в человека пуляют. Господи боже мой. Царица небесная…
— Пли!
Егор весь обмяк. Ноги подкосились. Столб закачался, вроде и земля оказалась где-то вверху. А голова? Егор не мог понять, где у него голова.
— Ура-а! Молодец, Аркадий Илларионович! Доказал.
— Молодец, — хлопает по плечу Егора хозяин. — Да ты отпусти из зубов чубук. Отпусти. Ну, господа! Двадцать шагов? Кто выиграл? Эй, принесите Егору ковш медовухи.
— И я так могу, — вмешался корнет — сын хозяина. Глаза голубые. Щёки, как яблоки. Из-под голубого расстегнутого мундира видно тонкое полотно рубашки. — И я так могу. О-очень могу. Немцев еду крушить. Встань, Егорушка, ещё на минутку. Встань у столба. Э! Принесите новую трубку.
И перед глазами Егора радужно завертелась красная десятирублевая бумажка.
— На, друг, я сразу тебе отдаю. На, на. Бери.
— Батюшки мои. Убивство! — мечется по крыльцу кухарка. — Барин Валерий. Да ты на ногах не стоишь!
— Врёшь! Не твоё дело, старая. Тут честь мундира. Честь мундира, говорю я вам. Еду с немцами воевать. Отойдите, господа. Чего это Егор дрыгаться начал?
Корнет медленно поднимает штуцер, но не может поймать мушку. Она дрожит, и Егор у столба то совсем ясно виден, то вроде в тумане, и трудно понять, где эта проклятая трубка.