У Фронтенаков в традиции была строгая нравственность – не религиозной природы, а республиканской и крестьянской. И отец, и дед Ксавье не выносили непристойных речей, а невенчанный брак дядюшки Пелуейра – старого холостяка, брата госпожи Фронтенак, от которого к семье перешло по наследству Буриде, имение в ландах, – был стыдом семьи. Рассказывали: он принимал эту тварь у себя в Буриде, в доме, где скончались его родители, и она смела являться в одиннадцать часов утра на пороге в розовом халате, туфлях на босу ногу и простоволосая! Дядюшка Пелуейр умер в Бордо у этой девицы, как раз приехав к ней составить завещание в ее пользу. Ксавье с ужасом думал, что и он пошел по той же дорожке, что, сам того не желая, живет по заветам развратного старого холостяка. Только бы родные не узнали, только бы не открылся этот позор! Страх перед разоблачением внушил ему мысль купить контору не в самом Бордо, а поблизости: он думал, что в ангулемской тишине канет его личная жизнь.
После смерти Мишеля семья не дала ему времени отойти от горя. Родители, тогда еще живые, и Бланш вывели его из оцепенения и указали: «само собой разумеется», он должен продать контору, уехать из Ангулема в Бордо и занять оставленное Мишелем место в фирме по торговле деревом для клепок. Напрасно Ксавье возражал, что ничего не понимает в торговле; ему твердо говорили, что он может опереться на компаньона – Артюра Дюссоля. Но он отбивался. Расстаться с Жозефой? – это выше его сил. Поселиться в Бордо? – его положение раскроется через неделю. Он может повстречать Бланш и ее детей, идя под руку с этой женщиной… Только представив это себе, он холодел. Теперь, став опекуном своих племянников, он больше, чем когда-либо должен был таить, скрывать свой позор. Собственно, при Дюссоле как управляющим, интересам детей, кажется, ничего не угрожало: контрольный пакет акций оставался у Фронтенаков. И только одно было важно для Ксавье: чтобы из его личной жизни ничего не вышло наружу. Он выдержал – в первый раз устоял перед волей отца, а тому уже недолго оставалось жить.
Все дела наконец уладились, но Ксавье не обрел покоя. Он не мог спокойно предаваться своему горю; его грызла совесть – то самое, из-за чего он сегодня кружил по комнате своего детства, между своей кроватью и той, на которой ему и сейчас мерещился лежащий Мишель. Наследство должно было достаться детям Мишеля; растратить из него хоть одно су, полагал он, – значит обокрасть семью Фронтенак. Между тем у них с Жозефой было условлено, что он каждый год первого января в течение десяти лет будет переводить на ее имя десять тысяч франков, после чего, по условию, она от Ксавье ничего уже не могла требовать, кроме квартирной платы и ежемесячного пособия в триста франков. Во всем себе отказывая (над его скупостью потешался весь Ангулем), Ксавье мог накопить двадцать пять тысяч франков в год, но из этой суммы племянники получали только пятнадцать тысяч. Он крадет у них каждый год десять тысяч, твердил он себе – не считая того, что прямо тратит на Жозефу. Само собой, от своей доли в имениях он отказался в их пользу, а собственными доходами каждый волен располагать как угодно. Но Ксавье знал тайный, никому не известный закон Фронтенаков и покорялся только ему. Он был старый холостяк – хранитель семейного наследия и управлял им в пользу священных маленьких существ, родившихся от Мишеля, разделивших между собой черты Мишеля – ведь Жан-Луи взял от него черные глаза, ведь у Даниэль была такая же маленькая черная родинка под левым ухом, у Ива – припухшее веко…
Иногда он усыплял угрызения совести и неделями не думал об этом. Но забота о том, как не выдать себя, не покидала его никогда. Он хотел бы умереть прежде, чем его семья что-либо заподозрит о его конкубинате. Тем вечером он и не подозревал, что в тот же самый час на большой постели, где испустил дух его брат, Бланш лежала с открытыми глазами, объятая душной тенью бордосских ночей, и зачинала на его счет самый странный замысел: она должна заставить Ксавье жениться, даже если ее дети на этом потеряют состояние. Мало было не делать ничего такого, что могло бы сбить Ксавье с пути, не дать ему определить свое положение: его надо было всеми способами склонять к этому. Да, это был бы подвиг!
А вот как раз… Завтра же она постарается завести речь на эту горячую тему, завтра же перейдет в наступление.
Он не поддался. За ужином Бланш к случаю вспомнила, как Жан-Луи, задумавшись, говорил, что дядя Ксавье может еще завести семью, иметь детей: «Надеюсь, он еще не решил этого не делать…» Ксавье подумал, что это просто шутка, поддержал игру и не без пыла, на который был иногда способен, к великой радости детей, описал свою суженую.
Когда они улеглись, а деверь с невесткой остались стоять у открытого окна, она пересилила себя:
– Я говорила серьезно, Ксавье, и хочу, чтобы вы это знали; я совершенно искренне обрадуюсь в тот день, когда узнаю, что вы решили жениться – хоть вы уже и припозднились…
Он холодно, наотрез сказал, предупреждая спор, что никогда не женится. Впрочем, рассуждения невестки ничуть не пробудили в нем подозрений: ведь мысль о женитьбе на Жозефе даже не могла ему прийти на ум. Дать фамилию Фронтенак какой-то бабенке, бывшей потаскушке, ввести ее в дом своих родителей, а главное: представить ее жене Мишеля, детям Мишеля – такого кощунства и вообразить нельзя. Так что он ни на секунду не подумал, что Бланш узнала его секрет. В раздражении, но нисколько не нервничая, он отошел от окна и попросил разрешения удалиться к себе в спальню.
Неторопливо тянулось детство, и в этой жизни, казалось, не было места никаким случайностям, никаким чрезвычайным происшествиям. Каждый час был наполнен трудом, приводил с собой завтрак, учебу, возвращение в омнибусе, скачки через ступеньки лестницы, запах ужина, маму, «Таинственный остров», сон. Даже болезнь (ложный круп у Ива, тифозная лихорадка у Жозе, скарлатина у Даниэль) находила свое место, сообразовывалась с остальным, давала больше радостей, чем горя, была событием, служила ориентиром для воспоминаний: «А в тот год, когда у тебя была скарлатина…» Каникулы ровной чередой открывались видом на колоннаду сосен в Буриде – в очищенном от скверны доме дядюшки Пелуейра. Те же ли самые




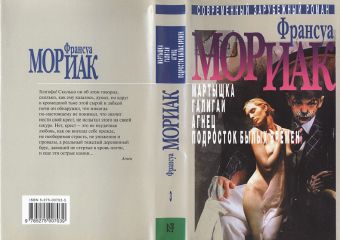
![Франсуа Мориак - Том 2 [Собрание сочинений в 3 томах]](https://cdn.my-library.info/books/133897/133897.jpg)