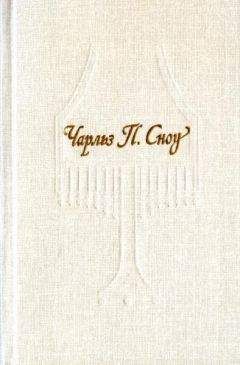- Ты предлагаешь им поступить со своими детьми так же, как поступают все?
- А почему бы и нет?
- Если уж кто-нибудь может пренебречь примером других, так это Льюис и Маргарет, - заявила Бетти.
Выполнив таким образом свой дружеский долг, супруги с облегчением заговорили о том, как скверно они провели воскресный день. Но я слушал их рассеянно с того самого момента, как Маргарет сказала, что у нас больше не будет детей. Разговор продолжался, обед проходил по-дружески непринужденно, и только я один ощущал внутреннее напряжение.
"Было бы куда спокойнее..." - конечно, она имела в виду нечто гораздо более серьезное, ее тревожило не только то, что иметь лишь одного сына рискованно. Это-то было ясно.
Нет, Маргарет опасалась не только этого. Ее пугало нечто Другое, что, собственно, мы оба знали, но о чем она по какой-то своей причине не хотела со мной разговаривать.
Все дело было в том, что она не доверяла своим побуждениям. Она знала, что ожидает от наших отношений гораздо большего чем я. Она пожертвовала большим; разбила свою семью и этим взяла на себя большую ответственность и вину; и теперь она очень следила за собой, чтобы не требовать слишком много взамен.
Но на самом деле, хоть она и не доверяла самой себе, она боялась не того, что в своей любви к сыну я невольно забуду обо всем, ее пугало лишь, что в конце концов я сам этого захочу. Она отлично знала меня. И раньше меня поняла, как много огорчений может навлечь на себя человек, чтобы в конечном итоге остаться самим собой. Она видела, что самые глубокие переживания моей молодости - неразделенная любовь, заботы, потраченные на друга, оказавшегося в беде, пассивное отношение к происходящему - имели то общее, что, как бы тяжко мне ни было, я мог утешаться тем, что отвечаю только перед самим собой.
Если бы не Маргарет, я бы этого не понял. Потребовалось огромное усилие, - ибо подспудно, в таких характерах, как у меня, скрывается недопустимое себялюбие, - чтобы осознать свои ошибки.
Без нее я бы с этим не справился. Привычки въедаются глубоко: как легко, как по душе мне было бы найти себя в односторонней, последней привязанности к единственному сыну.
Когда Бетти и Гилберт, полупьяные и болтливые, наконец уехали, я раздвинул шторы и, вместо того чтобы по освежающему, как ночной ветерок, обычаю всех женатых людей посудачить о гостях, сказал:
- Да, жаль, что у нас только он один.
- А тебе непременно нужно стать главой целого рода? - спросила Маргарет.
Она хотела дать мне возможность обратить все в шутку, но я ответил:
- На нем-то это не отразится, верно?
- С ним все будет в порядке.
- Я думаю, что понял достаточно, чтобы ему не мешать. - И добавил: - А если до сих пор не понял, то уже никогда не пойму.
Маргарет улыбнулась, словно мы просто перебрасывались шутками; но она почувствовала, что ошибки прошлого встали перед нами, и ей хотелось освободить меня от них. И тогда я, как будто переменив тему, сказал:
- Эти двое, - я кивнул в сторону ушедших Бетти и Гилберта, по-видимому, совершили весьма удачную сделку.
Она мгновенно догадалась о моем намерении и приготовилась, обсуждая чужую семейную жизнь, говорить о нашей собственной. В комнате было душно, и мы, жадно вдыхая ночной воздух, обнявшись, спустились на улицу; ночь была жаркая, по мостовой проносились машины; разговаривая о Бетти и Гилберте, мы направились к одной из площадей Бейсуотера и бродили по ней, прижавшись друг к другу.
Да, повторяла она, в каком-то смысле это очень удачный брак. Она считала, что их сблизила не страсть, хотя и этого было довольно, чтобы получать некоторое удовольствие, а такая прозаическая вещь, как боязнь одиночества. Бетти была слишком благородна, чтобы одобрять интриги Гилберта, но оба были одиноки и без больших запросов; они будут нападать друг на друга, но в конце концов сблизятся, и тогда он станет ей нужен. Если бы они имели детей или хотя бы у Бетти был ребенок от первого брака, они бы не были так неразлучны, сказал я; я пытался говорить правду, а не просто облегчить или усложнить собственное положение: чем эгоистичнее они будут по отношению к другим, тем больше будут нужны друг другу.
На площади, которая когда-то поражала величием, а теперь стала просто скопищем доходных домов, гасли последние огни. В воздухе не чувствовалось ни малейшего дуновения. Мы держались за руки и, болтая о Бетти и Гилберте, понимали друг друга и говорили о своих собственных сомнениях.
51. ПРИСЛУШИВАЯСЬ К ЗВУКАМ ЗА СТЕНОЙ
В ту ночь, когда мы бродили по площади, оба мальчика были здоровы. Через две недели мы взяли их с собой в гости к дедушке; в те дни только его состояние тревожило нас. Прошлой зимой у Дэвидсона было обострение коронарного тромбоза, и он, хотя и остался жив, являл теперь собой печальное зрелище. Нельзя сказать, что он плохо переносил страдания; но он отлично понимал, что его ждет в будущем, и беда была в том, что ему не нравилось это будущее; он пал духом и считал, что иначе и быть не может.
До шестидесяти с лишним лет он жил жизнью молодого человека. В своих развлечениях, вплоть до мелких удовольствий, игр и длительных прогулок он ничем не уступал молодому. Он казался более хрупким, чем большинство мужчин, но была в нем какая-то первобытная наивность, которая помогала ему не замечать, что он стареет. И вдруг его свалило одним ударом.
Дэвидсон держался куда более стоически, чем мистер Найт. И хотя он считал, что после смерти уйдет в небытие, он боялся кончины гораздо меньше, чем старый священник. До шестидесяти пяти лет он по-настоящему наслаждался жизнью, в то время как мистер Найт уже двадцать лет назад начал предаваться ипохондрии. Однако не мистер Найт, а именно Дэвидсон был беззащитен перед старостью и болезнями.
Но он отчаянно цеплялся за те развлечения, которые были ему еще доступны. Ничто другое не могло пробудить в нем ни малейшего интереса; в это воскресенье Маргарет решила попробовать любой ценой чем-то заинтересовать его.
Когда мы с детьми вошли к нему в кабинет, он удобно сидел в кресле, перед ним стояла доска, и они с Элен играли в придуманную им военную игру. Было тихо; оба мальчика робко жались к, Маргарет, и какое-то мгновение единственным звуком, нарушавшим тишину, было ясно различимое в духоте комнаты дыхание Дэвидсона, чуть-чуть более частое и напряженное, чем у здорового человека.
Тишина нарушилась, как только Морис подошел к Элен, с которой он болтал свободнее, чем с другими взрослыми, а малыш сделал несколько шагов вперед и остановился, переводя взгляд с доски на Дэвидсона. Элен отвела Мориса в уголок, и тогда Чарльз спросил:
- Что делает дедушка?
- Ничего сверхъестественного, Карло.
Хотя тон и самый звук голоса Дэвидсона были не такие, как прежде, а слова непонятны, ребенок залился смехом: его развеселило, что его назвали Карло, и он смеялся, словно от щекотки. Он закричал, что дедушка назвал его Карло, и непременно хотел услышать это еще раз. Потом Дэвидсон закашлялся, а ребенок смотрел на него: тусклые коричнево-серые глаза и синие прозрачные, застывшие скульптурные черты старика и живое, восприимчивое лицо ребенка, - такие разные, что, казалось, между ними нет и тени общего.
- Тебе лучше? - спросил мальчик.
- Спасибо, не очень, - ответил Дэвидсон.
- Не совсем лучше?
- Да, не совсем.
- Немножко лучше?
Раз в жизни погрешив против истины, Дэвидсон сказал:
- Может быть, немножко лучше.
- Скоро будет лучше, - сказал ребенок и добавил, весело и невпопад: Няне немножко лучше.
Действительно, приходящая няня несколько дней болела гриппом.
- Я очень рад это слышать, Карло.
Я хотел отвлечь мальчика от деда. Тон Дэвидсона был скорее небрежным, чем вежливым; ребенку не было еще и трех лет, а дед разговаривал с ним, как с лауреатом Нобелевской премии, и в этом тоне я услышал печаль, которая, по определению самого Дэвидсона, была совершенно безысходной. Поэтому я подозвал мальчугана и предложил ему поговорить со мной.
Но он ответил, что хочет разговаривать с дедушкой. Я пообещал показать ему картинки. Он улыбнулся и сказал:
- А дедушка назвал меня Карло.
Он обошел стол и приблизился к Дэвидсону, восторженно глядя на него во все глаза. Тогда с ним заговорила Маргарет и попыталась объяснить, что он потом вернется к дедушке, а пока у меня есть для него замечательные новые картинки.
- Пойди с папой, - сказала она.
Ребенок глядел на меня, глаза его потемнели и стали почти черными.
Обычно он был послушным, хотя и любил показать свой характер. Он подыскивал нужные слова, и в глазах у него появился блеск, который у взрослого можно было принять за злорадное упрямство.
- Пойди с папой, - повторила Маргарет.
Но он ответил отчетливо и задумчиво:
- Я не знаю, кто это - папа.
Все засмеялись, и я тоже; но на мгновение меня кольнуло, как лет двадцать назад, когда со мной отказалась танцевать девушка, которую я пригласил. И тут, мысленно переходя от своего оскорбленного самолюбия к эгоизму ребенка, я подумал, какие мы все эгоисты.