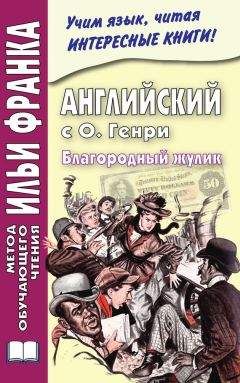Маршировали по улицам, носили университетские знамена – цвет ультрамариновый и синий; очень, очень оживился Флоресвиль. Энди сказал им речь с балкона гостиницы «Небесный пейзаж»; весь город ликовал и веселился.
Понемногу – недели в две – профессорам удалось разоружить молодежь и загнать ее в классы. Приятно быть филантропом – ей-богу, нет на всем свете занятия приятнее. Мы с Энди купили себе цилиндры и стали делать вид, будто избегаем двух интервьюеров «Флоресвильской газеты». У этой газеты был фоторепортер, который снимал нас всякий раз, как мы появлялись на улице, так что наши портреты печатались каждую неделю в том отделе газеты, который озаглавлен «Народное просвещение». Энди дважды в неделю читал в университете лекции, а потом, бывало, встану я и расскажу какую-нибудь смешную историю. Один раз газета поместила мой портрет между изображениями Авраама Линкольна и Маршела П. Уайлдера.
Энди был так же увлечен филантропией, как и я. Случалось, проснемся, бывало, ночью и давай сообщать друг другу свои новые планы – что бы нам еще предпринять для университета.
– Энди, – говорю я ему однажды, – мы упустили очень важную вещь. Надо бы устроить для наших мальчуганов дромадеры.
– А что это такое? – спрашивает Энди.
– А это то, в чем спят, – говорю я. – Есть во всех университетах.
– Понимаю, ты хочешь сказать – пижамы, – говорит Энди.
– Нет, – говорю я, – дромадеры.
Но он так и не понял, что я хотел сказать, и мы не устроили никаких дромадеров. А я имел в виду такие длинные спальни в учебных заведениях, где студенты спят аккуратно, рядами.
Да, сэр, университет имел огромный успех. Флоресвиль процветал: ведь у нас были студенты из пяти штатов. Открылся новый тир, открылась новая ссудная касса, открылась парочка новых пивных. Студенты сочинили университетскую песню:
Ро, ро, ро,
Цы, цы, цы,
Питерс, Таккер
Молодцы.
Ба, ба, ба,
Ра, ра, ра,
Университету –
Гип, ура!
Славный был народ эти студенты; мы с Энди гордились ими, как родными детьми.
Но вот в конце октября приходит ко мне Энди и спрашивает, известно ли мне, сколько капитала осталось у нас в банке. Я сказал, что, по-моему, тысяч шестнадцать. Но Энди говорит:
– Весь наш баланс восемьсот двадцать один доллар и шестьдесят два цента.
– Как? – реву я. – Неужели ты хочешь сказать, что эти проклятые сыны конокрадов, эти толстоголовые олухи, эти заячьи уши, эти собачьи морды, эти гусиные мозги высосали из нас столько денег?
– Да, – отвечает Энди. – Именно так.
– Тогда к чертям всякую филантропию, – говорю я.
– Зачем же непременно к чертям? – спрашивает Энди. – Если поставить филантропию на коммерческую ногу, она дает очень хороший барыш. Я подумаю об этом на досуге, и авось наше дело поправится.
Проходит еще неделя. Беру я как-то университетскую ведомость для уплаты жалованья нашим профессорам и вижу в ней новое имя: профессор Джеймс Дарнли Мак-Коркл, по кафедре математики, жалованье сто долларов в неделю. Конечно, я заревел таким голосом, что Энди, как вихрь, влетел ко мне в комнату.
– Что это такое! – кричу я. – Профессор математики за пять тысяч долларов в год? Как это могло произойти? Или он, как вор, влез в окошко и назначил себя сам на эту кафедру?
– Нет, – отвечает Энди, – я вызвал его по телеграфу из Сан-Франциско неделю назад. При открытии университета мы совсем упустили из виду кафедру математики.
– И хорошо сделали! – кричу я. – У нас только и хватит капитала уплатить ему за две недели, а потом нашей филантропии будет такая же цена, как девятой лунке на поле для гольфа.
– Нечего каркать, увидим, – отвечает Энди. – Дела еще могут поправиться. Мы предприняли такое благородное дело, что теперь нельзя его бросить. Кроме того, повторяю, мне кажется, что, если перевести его на хозяйственный расчет, получится другая картина; нужно хорошенько подумать об этом. Недаром все филантропы, которых я знаю, всегда обладали большим капиталом. Мне бы давно следовало подумать об этом и выяснить, где здесь причина и где следствие.
Я знал, что Энди дока в финансовых вопросах, и оставил все это дело на его попечении. Университет процветал, цилиндры наши лоснились по-прежнему, и Флоресвиль оказывал нам такой великий почет, как будто мы миллионеры, а не жалкие прогоревшие филантропишки.
Студенты по-прежнему оживляли весь городок и способствовали его процветанию. Приехал какой-то человек из соседнего города и открыл игорный домик – над конюшней – и каждый вечер загребал кучу денег. Мы с Энди тоже побывали в его заведении и, чтобы показать, что мы не чуждаемся общества, тоже поставили на карту один-два доллара. Там, в заведении, было около пятидесяти наших студентов, они пили пунш и передвигали по столу целые горки синих и красных фишек всякий раз, как банкомет открывал карту.
– Черт возьми, – сказал я, – эти дятлы, эти безмозглые головы, охочие до бесплатной учености, щеголяют в шелковых носочках и имеют такие деньги, каких мы с тобой никогда не имели. Посмотри, какие толстые пачки достают они из своих пистолетных карманов.
– Да, – отвечает Энди. – Многие из них – сыновья богатых шахтовладельцев и фермеров. Очень жаль, что они тратят и капиталы и время на такое недостойное занятие.
На рождественские каникулы все студенты разъехались по домам. В университете состоялась прощальная вечеринка. Энди прочел лекцию «Современная музыка и доисторическая литература на островах Архипелага». Все профессора говорили нам приветственные речи и сравнивали меня и Энди с Рокфеллером и с императором Марком Автоликом. Я ударил кулаком по столу и позвал профессора Мак-Коркла; но его на вечеринке не оказалось. А мне хотелось взглянуть на человека, который, по мнению Энди, мог зарабатывать сто долларов в неделю на филантропии, да еще на такой захудалой, как наша.
Студенты уехали вечерним поездом; город опустел. Стало тихо, как в глухую полночь в школе заочного обучения. Я вошел в гостиницу, увидел, что в номере у Энди горит свет, открыл дверь и вошел.
Энди сидел за столом. Тут же сидел и содержатель игорного дома. Они делили между собой кучу денег, фута в два вышиной. Куча состояла из пачек, а каждая пачка из бумажек по тысяче долларов.
– Правильно! – говорит Энди. – По тридцати одной тысяче в каждой пачке. А, это ты, Джефф. Подходи, подходи. Вот наша доля от выручки за первый семестр во Всемирном университете, основанном с филантропической целью. Теперь ты видишь, что филантропия, если ее поставить на коммерческую ногу, есть такое искусство, которое оказывает благодеяние не только берущему, но и дающему.
– Чудесно, – говорю я. – Ты на этот счет прямо доктор наук.
– Утренним поездом надо нам уезжать, – говорит Энди. – Поди собери воротнички, манжеты и газетные вырезки.
– Чудесно, – говорю я. – Мне недолго собраться… А все же, Энди, я хотел бы познакомиться с этим профессором Джеймсом Дарнли Мак-Корклом. Любопытно бы взглянуть на него перед нашим отъездом.
– Это нетрудно, – говорит Энди и обращается к содержателю игорного дома.
– Джим, – говорит он, – познакомься, пожалуйста, с мистером Питерсом.
Рука, которая терзает весь мир
– Многие из наших великих людей, – сказал я (по поводу целого ряда явлений), – признавали, что своими успехами они обязаны участию и помощи какой-нибудь блистательной женщины.
– Да, – сказал Джефф Питерс. – Мне случилось читать и в истории и в мифологии о Жанне д'Арк, о мадам Иэл, о миссис Кодл[16], о Еве и других замечательных женщинах прошлого. Но женщины нашего времени, по-моему, почти бесполезны и в бизнесе и в политической жизни. Куда годится современная женщина? Ведь мужчины в настоящее время и лучше стряпают, и лучше стирают и гладят. Лучшие сиделки, слуги, парикмахеры, стенографы, клерки – все это мужчины. Единственное дело, в котором женщина превосходит мужчину, это исполнение женских ролей в водевиле.
– А я думал, что женская чуткость и женская хитрость оказывали вам бесценные услуги в вашей… как бы это сказать? специальности…
– Да, – сказал Джефф и энергично кивнул головой, – так может показаться. А на поверку женщина – самый ненадежный товарищ во всяком благородном мошенничестве. Вдруг, ни с того ни с сего, когда вы больше всего на нее надеетесь, она становится честной и проваливает все дело. Однажды я испытал этих дамочек на собственной шкуре.
Билл Хамбл, мой старый приятель, с которым я сдружился на Территории[17], вбил себе в голову, что ему хочется, чтобы правительство Соединенных Штатов назначило его шерифом. В ту пору мы с Энди занимались делом чистым и законным – продавали трости с набалдашниками. Если вам вздумается отвинтить набалдашник и приложить его к губам, вам прямо в рот потечет полпинты хорошего пшеничного виски, которое приятно прополощет вам горло в награду за вашу догадливость. Полиция изредка докучала нам, и, когда Билл сообщил мне, что хотел бы сделаться шерифом, я сразу смекнул, что в этой должности он был бы очень полезен торговому дому «Питерс и Таккер».