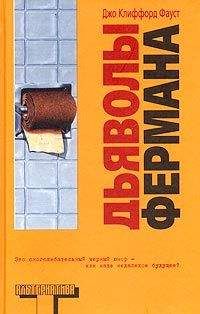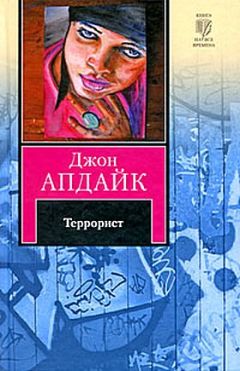А вот Бет в большей мере шагает в ногу со временем, больше склонна покоряться и меняться. Она согласилась сочетаться браком в Городском совете, хотя, краснея, призналась Джеку, что бракосочетание не в церкви разобьет сердца ее родителей. Она не сказала, что будет с ее сердцем, и он произнес: «Сделаем это попроще. Без всяких фокусов-покусов». Религия ничего для него не значила и, по мере того как они сливались в браке, все меньше и меньше значила для нее. И сейчас он спрашивал себя, не лишил ли он ее чего-то — пусть даже нелепого — и не компенсирует ли она себя за это неумолчной болтовней и перееданием. Наверное, не так-то легко быть замужем за упрямым евреем.
Выйдя из ванной в халате, она увидела, что он молча неподвижно стоит у окна в верхнем холле, и, испугавшись, крикнула:
— Джек! Что случилось?
Из некоего садизма, присущего человеку, подчиненному жене и скрывающему свое мрачное настроение, он лишь наполовину прячет его от нее. Он хочет, чтобы Бет чувствовала, что его умонастроение — ее вина, хотя разум подсказывает ему, что это не так.
— Ничего нового, — говорит он. — Я опять слишком рано проснулся. И не мог снова заснуть.
— На днях по телевидению говорили, что это признак депрессии. Опра показывала женщину, про которую написана книга. Может, тебе следует пойти... не знаю, право, но женщина говорила, что слово «психиатр» пугает всех, у кого мало денег... может, тебе следует пойти к какому-нибудь специалисту, раз у тебя такая беда.
— К специалисту по Weltschmerz[2]. — Джек поворачивается и улыбается жене. Хотя ей тоже за шестьдесят — шестьдесят один, а ему шестьдесят три, — на ее лице нет морщин: там, где у худой женщины были бы глубокие морщины, на ее круглом лице они лишь слегка намечены, разглажены до почти детского состояния жиром, натягивающим кожу. — Нет, спасибо, дорогая, — говорит он. — Я целый день выдаю другим премудрости, так что сам поглощать их не могу. Слишком много антител.
За годы совместной жизни Джек узнал, что когда он ставит точку на какой-то теме, она быстро переключается на другое, лишь бы окончательно не потерять его внимание.
— Кстати об антителах. Эрмиона сказала вчера по телефону — только это строго конфиденциально, Джек, даже мне не следовало знать, так что обещай, что никому не скажешь...
— Обещаю.
— Она рассказывает мне такие вещи, чтобы высказаться, я ведь вне того круга, который у нее там... она сказала, что ее начальник собирается поднять уровень террористической угрозы с желтого до оранжевого. Я думала, об этом будет по радио, но ничего не было. Как ты думаешь, что это означает?
Начальник Эрмионы в Вашингтоне — министр внутренней безопасности, этакий выродок, марионетка правых сил с немецкой фамилией Хаффенреффер.
— Это значит, они хотят, чтобы мы не думали, будто они ничего не делают, а только сидят на наших долларах, которые идут на налоги. Они хотят, чтобы мы считали, что они держат руль. А на самом деле — ничего подобного.
— И это тебя волнует, когда ты волнуешься?
— Нет, дорогая. Это последнее, что у меня на уме, честно говоря. Будь что будет. Я вот думал, глядя сейчас из окна, что вся эта округа только выиграла бы от хорошей бомбы.
— Ох, Джек, ты даже и шутить так не должен — столько молодых людей сидят на верхних этажах, они звонят своим женам по мобильникам и говорят, как они их любят.
— Да знаю я, знаю. Мне нельзя даже и пошутить.
— Марк все говорит, что надо нам переехать в Альбукерке, чтоб быть ближе к нему.
— Говорить-то он, лапушка, говорит, да вовсе этого не хочет. Он меньше всего хочет, чтобы мы перебрались к нему. — И, испугавшись, что его правдивые слова могут ранить мать парня, он весело добавляет: — Понять не могу, почему он так настроен. Мы же никогда не били его и не запирали в шкафу.
— Эти никогда не станут бомбить пустыню, — приводит Бет веский аргумент, словно они уже почти решили переехать в Альбукерке.
— Правильно: эти, как ты их называешь, обожают пустыни.
Со смесью облегчения и сожаления он отмечает, что его сарказм обидел ее и она прекращает разговор на эту тему. Высокомерно по-старомодному вскинув голову, она произносит:
— Как хорошо, должно быть, не думать о том, что беспокоит всех вокруг, — и отправляется в спальню стелить постель и с таким же усердием, с каким взбивает подушки, одеться для работы в библиотеке.
«Чем я заслужил, — спрашивает он себя, — такую преданность, такое доверие жены?» Он слегка огорчен ее молчанием в ответ на его оскорбительное утверждение, что их сын, процветающий офтальмолог с тремя милыми загорелыми детьми, носящими, как положено, очки, и крашеной блондинкой женой из Шорт-Хиллз, чистокровной еврейкой, внешне дружелюбной, а на самом деле холодной женщиной, не хочет, чтобы его родители жили рядом. У них с Бет существуют на этот счет собственные мифы, и согласно одному из них Марк любит их так же, как они — ничего тут не поделаешь, когда в гнезде всего одно яйцо, — любят его. Собственно, Джек Леви не возражал бы распроститься со здешними местами — прожив жизнь в старом промышленном городе, умирающем на корню и превращающемся в джунгли третьего мира, он почувствовал бы себя лучше, перебравшись на Солнечный Пояс. Да и Бет тоже. Прошлая зима была жестокой на Средне-Атлантическом побережье, и в вечной тени между некоторыми из соседних, плотно стоящих друг к другу домов до сих пор лежат черные от грязи кучки снега.
В Центральной школе он занимает для своих бесед в качестве наставника самую маленькую комнатку — бывший чулан для долгого хранения, где еще остались серые металлические полки, на которых лежат в беспорядке каталоги колледжа, телефонные справочники, учебники по психологии и хранятся старые номера малоинтересных изданий — еженедельник размером с журнал «Нейшн» под названием «Рынок рабочих мест», освещающий потребности района в рабочей силе и рассказывающий о его технических заведениях. Когда восемьдесят лет тому назад строили этот дворец, создание отдельного помещения для наставников не считалось необходимым: наставничеством занимались все — любящие родители в семье и моралистическая популярная культура вне ее, да еще всякие советы со стороны. Ребенку внушалось куда больше, чем он мог переварить. А теперь к Джеку Леви, как правило, приходят дети, у которых словно нет родителей во плоти — они получают свои сведения о мире исключительно от электронных призраков, подающих им сигналы через забитую людьми комнату, или выстукивающих информацию через затычки для ушей из черного пенопласта, или закодировавших ее в сложных программах видеоигр, где фигурки спазматически дергаются во взрывных алгоритмах. Ученики проходят перед своим наставником как серия дисков, чья сверкающая поверхность не дает никакого представления об их содержании, если нет оборудования, на котором можно их проиграть.
Этот старшеклассник — пятое получасовое интервью за утомительно долгое утро — высокий стройный смуглый юноша в черных джинсах и ослепительно белой рубашке. Белизна рубашки режет глаза Джеку Леви, у которого от раннего пробуждения немного побаливает голова. На папке с отчетами об успеваемости ученика значится Маллой (Ашмави), Ахмад.
— У вас интересное имя, — говорит юноше Леви. Что-то есть в этом парне, что нравится Леви: серьезность немигающих глаз, старательно сложенные с любезным выражением мягкие, довольно пухлые губы и хорошо подстриженные и тщательно причесанные волосы стойким, как проволока, пробором, который проложен ото лба. — Ашмави — это кто? — спрашивает наставник.
— Мне объяснить, сэр?
— Пожалуйста.
Юноша говорит с мучительно достающимся ему достоинством, явно подражая, думает Леви, какому-то знакомому взрослому, который говорит гладко и официально:
— Я являюсь плодом матери — белой американки и студента-египтянина по обмену; они познакомились в лагере университета штата Нью-Джерси, что находится в Нью-Проспекте. Моя мать, которая с тех пор стала работать помощницей медсестры, пыталась тогда получить стипендию для диплома по искусству. В свободное время она рисует и создает украшения, причем довольно успешно, хотя и недостаточно, чтобы содержать нас. А он... — Юноша приостанавливается, словно ему попало что-то в горло.
— Ваш отец, — подсказывает ему Леви.
— Совершенно верно. Он надеялся, как рассказала мне мать, научиться американскому делопроизводству и технике рыночного дела. А это оказалось не так легко, как ему говорили. Его фамилия — в моем представлении он по-прежнему жив — Омар Ашмави, а ее — Тереза Маллой. Она американка ирландского происхождения. Они поженились задолго до того, как я родился. Так что я законнорожденный.
— Отлично. Я в этом не сомневался. Да это и не имеет значения. Законность не относится к ребенку, если вы понимаете, чтó я имею в виду.
— Понимаю, сэр. Благодарю вас. Мой отец прекрасно знал, что, женившись на американской гражданке, какой бы аморальной дрянью она ни была, он получает американское гражданство, что и произошло, но не американскую сноровку и не связи, ведущие к американскому процветанию. Отчаявшись когда-либо заработать больше, чем на скромную жизнь, он, когда мне было три года, снялся с якоря. Я употребил правильное выражение? Я встретил его в автобиографических мемуарах великого американского писателя Генри Миллера, которые мисс Макензи велела нам прочесть по своему курсу Совершенствования в английском языке.