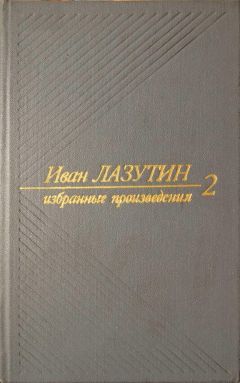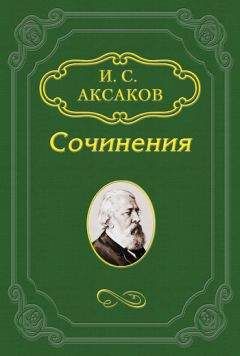Странно… Лена плачет, а на меня накатился приступ идиотского возбуждения, словно я принял лошадиную дозу допинга. С самого утра на языке вертятся есенинские строки:
…Плачет где-то иволга.
Схоронись в дупло.
Только мне не плачется —
На душе светло…
Что это — молодость? Неопытность? А может быть, желание испытать себя на оселке войны?
Наше студенческое общежитие на Стромынке «чем-то напоминает солдатский бивуак. Все ифлийцы, перешедшие на 5-й курс, получили (досрочно!) дипломы об окончании института.
Домой написал, что, несмотря на «белобилетье» (из-за близорукости), пойду в народное ополчение. Думаю, отец благословит. Мать, конечно, поплачет. На то она и мать.
Вчера весь вечер был у Лены. Успокаивал ее.
Вера Николаевна (мать Лены) пришла в двенадцатом часу ночи. Работает в Куйбышевском райкоме партии. Хоть и намоталась за день и нервы взвинчены, а проговорили почти до рассвета. Рассказала такое, что я понял: мой патриотизм романтика-белобилетника с очками в 5 диоптрий поблек перед тем извержением общенародного подъема, которым дышит Москва. Как и в каждом районе столицы, в Куйбышевском тоже формируется дивизия народного ополчения. Стрелковая. В райкоме партии работает Чрезвычайная тройка. Поистине как у древних римлян: Tres faciunt collegium[1]. Вера Николаевна вошла в рабочую группу этого триумвирата.
Ночью она несколько раз звонила в райком и спрашивала, не вернулся ли первый секретарь из МГК, где с восьми часов вечера шло расширенное совещание, на котором присутствовали секретари райкомов Москвы, представители Наркомата обороны, члены Военного совета Московского военного округа, районные военкомы, комиссары, высокие военачальники, генералы…
На совещании стоял один вопрос: организация добровольческих дивизий народного ополчения столицы.
Сегодня 3 июля. А уже вчера поток добровольцев, готовых идти на защиту Родины, исчислялся в каждом районе Москвы тысячами. На вчерашний вечер, как сказала Вера Николаевна, на заводах, фабриках и предприятиях нашего района было подано 18 тысяч. заявлений от рабочих и служащих с просьбой зачислить их в народное ополчение.
Куйбышевский район Москвы не промышленный. Государственная управленческая интеллигенция, а также ученые, инженеры, журналисты, деятели искусств, экономисты на призыв Центрального Комитета партии откликнулись твердым решением с оружием в руках защищать Родину. В Наркомате внешней торговли в ополчение записались две трети мужчин. В аппарате Техно-промимпорта 50 мужчин, из них в народное ополчение идет 42 человека! Это новый, высший тип советской интеллигенции. Хоть снова, как в гражданскую войну, вешай у ворот таблички: «Наркомат закрыт, все ушли на фронт».
Вчера вечером первому секретарю Куйбышевского райкома партии звонили два наркома. Они в растерянности: из аппарата Наркомфина СССР в ополчение записалось 430 человек, в Наркомате совхозов СССР — 300 человек, в Наркомате легкой и текстильной промышленности РСФСР — 250 человек, в Центросоюзе — 350 человек, в Госплане РСФСР — 100 человек.
Эти цифры я записал специально. Они меня потрясли. Этой социальной статистикой я, если останусь жив, займусь после войны. Сама жизнь диктует серьезное исследование: «Война и интеллигенция». Так что я не герой и не белая ворона в этом вихре народного гнева.
Мое решение вступить в народное ополчение Веру Николаевну не удивило. Она только посоветовала не обманывать медкомиссию и не скрывать близорукость. Даже пошутила: «На всякий случай захвати с собой про запас пару очков в надежной оправе. Не дай бог, потеряешь очки во время атаки и начнешь сослепу палить по своим».
Совет дельный. Что такое потерять очки, я однажды уже испытал во время похода за грибами. Все набрали по корзине белых и подберезовиков, а я, бедолага, видел одни только ярко-красные мухоморы. Всем было смешно, а я страдал от своей беспомощности. Война — не прогулка за грибами. Завтра же еду в аптеку на улицу Горького и запасаюсь полдюжиной очков.
За какие-то полтора часа беседы с Верой Николаевной я особенно остро осознал опасность, которая нависла над нашей страной. Пока пили чай, Лена, поджав ноги, сидела на диване и пришибленно смотрела то на меня, то на мать.
Завтра с утра снова иду на пункт записи. Скажут, в какой батальон, роту я попал.
Вера Николаевна спросила размер ботинок, которые я ношу. Что-то родное, материнское прозвучало в этом вопросе.
Идет двенадцатый день войны. А как изменился и посуровел облик столицы!
Семьи командиров гарнизона отправляли на восьми автомашинах, доверху заваленных узлами, чемоданами, корзинами. Грузились всю ночь, до рассвета. В основном это были женщины и дети.
Пять командирских жен с неутешным горем в заплаканных глазах были уже вдовами. Когда погрузились, дети погибших сидели рядом с матерями — притихшие, испуганные. Чтобы не свалиться, ребятишки цеплялись за узлы и чемоданы. Они уже не плакали. Для слез нужны силы.
Спазмы сдавливали горло Григория Казаринова, когда он подсаживал на машину двух девочек капитана Савушкина, который два дня назад повел роту в контратаку, отбил атаку, а сам упал у трансформаторной будки, смертельно раненный в грудь. Он умер на глазах у бойцов. Последний приказ его был такой: командование ротой он передает командиру первого взвода лейтенанту Королькову.
Время поджимало. Командир полка, сам не рискнувший бросить свой КП, чтобы проститься с женой и дочкой-девятиклассницей, все-таки разрешил на два часа отлучиться в воинский городок семейным командирам, чтобы те простились с женами и детьми.
И хотя солнце еще не показалось из-за леса, темнеющего в дымке предрассветного тумана, командиры торопили жен, прижимали их к груди, целовали детей, подсаживали на машины, успокаивали, давали наказы… И почти каждый нет-нет да посматривал на часы.
За последние дни Галина заметно изменилась. Под глазами у нее темными подковами залегли тени. Всегда веселая и с первого же дня приезда в часть вызвавшая среди командирских жен суды-пересуды — у кого восторг («Красавица!»), у кого тайную зависть («Ничего, кудри быстро разовьются, а разочка два походит с пузом — осиную талию как ветром сдует»), — теперь, как и все, была пришиблена общим горем.
Григорий забросил чемодан и узелок Галины на третью машину. Спрыгнув с кузова, достал из планшета письмо.
— Это передашь деду. Спрячь хорошенько.
Галина сложила конверт вдвое и сунула его за пазуху.
— Ой, Гришенька, что же это творится?
— На этих машинах вас довезут до Смоленска. Там садись на поезд и без задержки прямо в Москву. Смотри не потеряй письмо. Думаю, что дед сейчас в Москве. Если его не окажется в московской квартире, сдай вещи в камеру хранения и поезжай на дачу. В письме я написал оба адреса — московский и дачный. До Абрамцева езды всего час, с Ярославского вокзала…
Григорий говорил все это, но по глазам Галины видел, что она не слушает его. На какой-то миг Григория охватило недоброе предчувствие — почудилось вдруг, что он видит Галину последний раз.
— Ты что?.. Почему меня не слушаешь?..
— Гриша!.. — вырвалось из груди Галины, и она, обвив его шею руками, зашлась в беззвучных рыданиях.
— Ну что ты?.. Разве так можно? — только и смог выдавить Григорий. — Возьми себя в руки… — Он чувствовал, что голос его, какой-то потусторонний, еще больше пугал Галину.
— Неужели… больше… не увидимся? — сдавленным стоном вырвались слова у Галины, которые тут же потонули в новом приливе рыданий.
— Заканчивай погрузку!.. Рассвет близится!.. — с надсадным визгом и как-то нервозно прозвучала команда начальника штаба второго батальона капитана Рапохина, который, перебегая от машины к машине, проверял готовность к отправке. Старшим в группе командиров, прибывших проститься с семьями, командир полка назначил Рапохина. Он был старше остальных по возрасту и по званию. — А где Костя Горелов? — оглядев последнюю машину, на которой должен был ехать сын тяжело раненного и отправленного в госпиталь комиссара батальона Горелова, спросил капитан. Командир полка особо наказал капитану, чтобы тот поручил присматривать за парнишкой одной из командирских жен.
Жена Горелова, родившая девочку в ночь на двадцать второе июня, вместе с роддомом была эвакуирована из городка на второй день войны. Двенадцатилетний Костя, слывший среди гарнизонных мальчишек заводилой и непревзойденным горнистом, весть о тяжелом ранении отца пережил тяжело. А главное, он не знал, куда увезли отца, в какой город. Если бы знал — стал бы его разыскивать. Не знал он также, куда эвакуировали роддом из Н-ска, где недавно у него родилась сестренка. Сказали — «на восток». А поди узнай, где он начинается и кончается, этот «восток»…