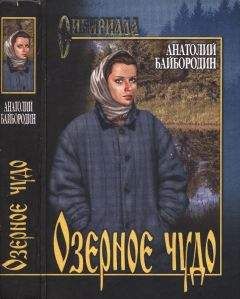Ознакомительная версия.
Старик брел по Иркутску; авоськи и баулы испуганно обтекали его. Под стариковское линялое пальто поддувал сырой ветер; он же порой зло теребил и вздымал по-младенчески пушистые и насквозь проглядные, инистые волосы, обнажая овраги висков, какие бывают у лошадей, когда они падают в изнеможении.
* * *
Вот так же осенью сорок первого волочились солдаты, отходя в российскую глубь по грязным и топким разбитым дорогам. Пала в обозе надсаженная лошадь, и молоденький лейтенант, матерками отгоняя от себя жаль, своеручно пристрелил ее; и старик — тогда еще не мужик и уже не парень — глядел на палую лошадь сквозь слезную заволочь, потому что вырос в деревне при конях. Потом нагляделся на смерти; и слезы, пролившись в душу, закаменели в ней, и много нужно было послевоенных дней и молитв, чтобы слезы растопились и пролились в душу теплым дождем, и там, робкая еще, как вешние травы, народилась любовь.
* * *
По Большой улице, прозванной Бродом, тупо и медленно, сплошным и грозным потоком, словно в атаку, ползли машины; хищно сверкали нездешней, несвычной пестротой, сыто, но жадно урчали; и колыхался над ними тяжкий, угарный гул. Но для старика уже все стихло, и вместо уличного гула из пепельной, миражной бездонности — из-под церковного купола, с голубых небес — сухим и теплым ладаном наплывали покойные, ясные звуки и, похожие на далекий-далекий перезвон колокольный, грели стариковскую душу.
* * *
Такие же небесные звуки потоком хлынули на русских солдат, когда со скрежетом распахнулись ворота немецкого лагеря — в синюю небесность, в церковный купол; и шли они равнодушные к жизни — может, не люди, а светлые тени, оставившие плоть позади, где бездымно темнели печи — редкие зубы в провале старческого рта, черные и голые дерева на пожарище.
* * *
Старый пес, теперь уже бездомный, бродячий, плелся по городу, припадая на ослабшие, хворые лапы и робко, просительно, с вялой надеждой заглядывая в подворотни старгородских одряхлевших усадеб, где высмотрел, как, чужеродно выпячиваясь из унылой ветхости, степенно похаживал дог, под гладкой, лоснящейся кожей которого дыбилась, властно играла упругая злая сила.
Старому псу привиделось далекое-далекое, гаснущее в сумраке лет, когда он, молодой и матерый, но смирный и заласканный детишками, без клича оборонил хозяина, рискуя в прыжке угодить на нож. И пес был счастлив редкой удаче — спас хозяина, выказал собачью преданность; и он бы захлебнулся в предсмертном восторге, если бы, заслонив друга, пал наземь, истекая дымящейся кровью.
Дог настороженно замер у черных тесовых ворот, крытых двускатной драневой крышей. А тут из калитки, легкая, словно одуванчик, вприпрыжку выбежала синеглазая девчушка и, хлопая белесыми ресницами, уставилась на печального старого пса. Потом улыбнулась — посреди осенней мороси засветилось летнее солнышко — залепетала, пришепетывая, на детском поговоре, сунула псу надкушенный пряник, и тот бережно взял угощение, прижал губами, но не сглотил — то ли от удивления, то ли от робости и смущения. Девчушка присела перед ним на корточки, погладила, все так же лепеча — словно шелестели на тихом ветру полевые цветы и травы; и пес неожиданно улегся перед ней, положил морду на лапы и блаженно прикрыл слезящиеся усталые глаза.
Долго ли, коротко ли тянулось собачье блаженство, но тут из калитки торопливо вышла женщина — видимо, мать девчушки, — ярко наряженная, но раздраженная, презрительно глянула на пса, потом схватила дочь за руку и прошипела:
— Ты что, хочешь заразу подхватить?! Ну-ка, пошла отсюда, старая псина, помойка ходячая! — замахнулась на пса, потом ворчливо сказала дочери: — Пошли скорей, а то опоздаю из-за тебя…
И подволакивая захныкавшую девчушку, женщина засеменила по улице, нервно стуча острыми каблуками. Тем временем дог, враждебно щурясь, со зловещей неторопливостью пошел на бродячего пса, и тому ничего не оставалось, как уносить лапы от греха подальше.
* * *
Людская река выплеснула старика к торговым рядам, где осинными гнездами лепились лавки, где торговали нерусским, режущим глаза, а чем — старик уже давно не понимал. Да он не глядел на пестрые лавки и раньше, а теперь и подавно. Хотя вдруг удивленно замер возле молодой цыганки с черными до жгучей синевы, текущими на плечи, густыми волосами, с омутными глазами, в которых бесовским искусом играли приманчивые огоньки. Торговка скалила бело-пенистые зубы, потряхивала вольной, полуоткрытой грудью и, весело заманивая покупателей, продавала медные нательные крестики с распятым Христом и Царицей Небесной, что свисали с руки на блескучих цепочках. Парни в толстых, мешковатых штанах мялись подле цыганки, весело и бойко приглашали в ближний трактир. Торговка, играя плечами, постреливала ночными глазами, и с губ ее, пухлых, вывороченных наружу, не сползала сулящая улыбка. Но когда парни со смехом и гомоном подались прочь, осерчалая цыганка плюнула им вслед, замешав плевок на забористом русском мате. Тут же в сердцах набросилась и на старика:
— А ты чего здесь торчишь, старый…?! — цыганка ввернула словцо, от коего вянут, словно прибитые инеем, даже крепкие мужичьи уши, и старик, хоть и не обиделся, все же пошел от греха.
Он еще постоял возле широкой деревенской бабы, что торговала картошкой. Вдруг дивом дивным увидев деревеньку своего довоенного детства, хотел было перемолвиться с бабонькой: дескать, утром небо плакало, а ночью Господь зимушку пошлет. Но та испуганно отпрянула от старика и осенила лоб незримым крестом, — ей почудилось, что дохнула холодная пустоглазая смерть, которая нынче пошла бродить по городу. Но бабонька тут же и спохватилась, сунулась под прилавок и выудила творожную деревенскую шаньгу, затем, подумав, прибавила к ней брусничную. Гостинец, прозываемый в деревне подорожниками, уложила в пакет, а коль старик стал отказываться от угощения, то и сунула ему в широкий полуоторванный карман пальто. Старик поклонился бабоньке и, перекрестив ее, прошептал: дескать, спаси и помилуй тя, Господи Иисусе Христе.
В торговых рядах гремела и билась в припадке шалая музыка, а уж на каком поговоре там пели, старик не разумел. Раньше эта одичалая музыка напоминала ему лай и рычание озверевшей, кровожадной своры собак, которые сопровождали пленных русских солдат и рвались с поводков, чтобы дотерзать полуживых людей. Но сейчас старик не слышал магнитофонного рыка и лая; глухим нимбом обволакивали его бездумные, пахнущие ладаном и могильным покоем, небесные звуки.
По городу брел старик, седой, изможденный, и когда ветер распахивал его пальто, изветшавшее, грубо, нитками внахлест зачиненное, то взблескивали вдруг медали, прицепленные прямо на выжелтевшую, темнеющую рваными дырами, будто простреленную, исподнюю рубаху.
Неожиданно старик свернул в сумрачную арку; утомленно припал к грубо отесанной каменной стене, и острые щербины впились в его щеку, поросшую реденьким седым волосом. Он оглядел арку, похожую на могильный склеп, и на глаза ему попался перевернутый вверх дном, решетчатый ящик из-под вина, — видимо, кто-то здесь уже переводил сморенный дух. Старик присел на ящик, откинулся к стене и прикрыл глаза тонкими, в синей паутине, дрожащими веками. Бог весть, долго ли тянулось это обморочное забытье, но неожиданно старик ощутил, что к рукам его, безжизненно опавшим на колени, к холодному лицу, прикоснулось ласковое, теплое, влажное, до сладостной боли родное, приплывшее в город из далекого деревенского малолетства, что вернулось к нему, увиделось и наполнило душу птичьей легкостью.
Еще боясь поверить, боясь спугнуть оживающее видение, старик не открывал глаза, вытягивал наслаждение, потом медленно отпахнул веки и по-детски солнечно улыбнулся — рядом сидел такой же ветхий, как и он, сиротливый пес, облизавший ему лицо и руки. Младенчески-беззубая и бездумная улыбка тронула синеющие стариковские губы — закатный солнечный луч согрел восковое лицо старика; и, как бывало в детстве, неспешно и протяжно погладил пса, почесал за ушами, висящими словно лопухи. А уж потом вспомнил о подорожниках, которые сунула ему в карман сердобольная деревенская бабонька; вспомнив, тут же и достал творожную шаньгу и протянул псу. Тот бережно взял угощение в зубы и, положив на землю, уставился на старика вопрошающим, слезливым взглядом. Старик обнял его за шею, опять же как в своем далеком деревенском малолетстве, прижался лицом к лохматой морде и, блаженно укрыв глаза, снова впал в забытье.
Разбудил его посвистывающий шепот, из которого вырывался ломкий, куражливый басок. Старик очнулся, вошел в житейскую память и, кажется, догадался, что рядом целуются молодые. Они возились близко, за углом…. Не ведая зачем, старик поднялся с ящика, пошел к ним на негнущихся, одеревенелых ногах и стал молча смотреть влажно синеющими из потаенной глуби, удивленными глазами; и молча же слушал, как умолял и клялся парень, как тяжело и прерывисто дышала его подруга.
Ознакомительная версия.