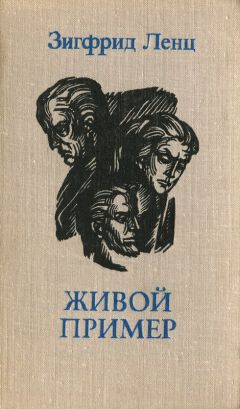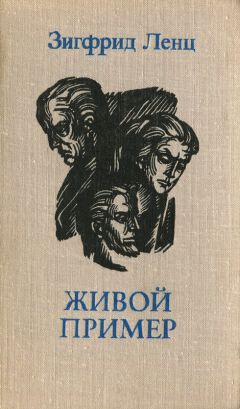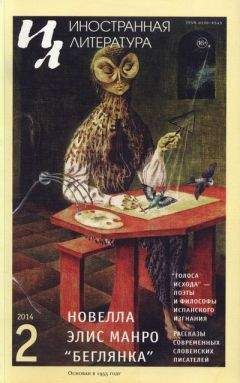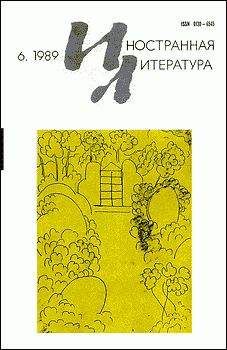Зигзаги коридоров, а главное, спертый, душный воздух — да, Рита Зюссфельд убеждена, что виной всему воздух в коридорах, от него в глазах какой-то туман, а в голове болезненный гул. Ее качает, она трет глаза, поглаживает виски, но на вопросительный жест Хеллера кивает, успокаивая:
— Ничего, сейчас пройдет.
Еще один поворот, и перед ними стеклянная дверь, а на ней табличка с тремя черными силуэтами стилизованных барок, омываемых немногочисленными, но бурными волнами.
Вот, стало быть, эти барки и мчат к родным берегам дух человеческий, непреходящие ценности, все неоспоримое, мчат в настоящее время под командой господина Дункхазе. Полагается ли здесь стучать?
Ответа на легкий стук Рита Зюссфельд и Хеллер не получают, а потому входят и сразу же, разойдясь в разные стороны, прижимаются к стене, словно стражи у дверей; им ничего другого не остается: на полу и на столах, на батареях отопления и на полках разложены, а на стенах развешены крупноформатные фотографии. У окна, стоя на узкой полоске суши, редактор Дункхазе — тщательно — небрежная прическа, фаянсовая чашка в руке — мрачно разглядывает фотографии на полу, словно обманувшее его ожидания озеро, из которого ничего не выудишь.
У Хеллера тотчас мелькает мысль: а он вполне мог бы сидеть в моем классе. Слева, рядом с Дункхазе, пожилой фотограф, он смущен, клетчатая спортивная кепка сдвинута на затылок; справа, рядом с Дункхазе, дочь фотографа — бледная, плоскощекая, с нашивками американского сержанта на рукаве, — очевидно, она работает с отцом.
Дункхазе здоровается, отвлекшись от фотографий, весьма кратко, скорее намеком, и вновь погружается в тоскливое созерцание. Видимо, редакция предполагает создание фотоальбома, называться альбом должен «Люди нашей страны», а мрачен Дункхазе именно потому, что фотографии не дают представления об их стране, вернее сказать, они иллюстрируют совсем не ту страну, которую он себе представляет. Внезапно одна его нога дрогнула, он осторожно отодвигает фотографии ногой чуть в сторону, разгребает себе брод и рассматривает фотографии под другим углом; но результат столь же плачевный, он с отвращением мотает головой, вздыхает и объясняет семейству фотографов причину своего недовольства:
— Баржи на Рейне… В который раз я вижу этот поблескивающий треугольник на воде, живописную дымку над откосами и, разумеется, неизменные развалины древнего замка… Красота, да, но кладбищенская красота, для вагона-ресторана, пожалуй, сгодилась бы, только не для нас. Или вот еще: краболовный бот в Северном море, снятый сквозь развешенные сети. Да это же истинное благолепие, такую картину только в золоченую рамку вставить, и никому в голову не придет, как чертовски худо живется рыбакам. А вот эти веселые шахтеры, вот тут, под душем после смены… Я и представить себе не могу, чтоб они хоть краем уха слышали что-нибудь о пневмо-кониозе. Превосходные фотографии, изысканные и благодушные, наша трудовая родина, до блеска отлакированная. Старик, получилось как раз то, чего нам никак не надобно.
Доктор Дункхазе залпом выпивает свой чай, оглядывается, ища помощи, на Хеллера и Риту Зюссфельд, обнаруживает, что у них в руках нет чашек, и кричит в соседнюю комнату:
— Ольга, еще чаю и две чашки.
Растерянно блуждает он меж пейзажей, вкруг городских фонтанов и ярко освещенных заводов, раздраженно рассматривает набившие всем оскомину радостные лица — старика виноградаря из долины реки Мозель, служки в Ротте-на-Инне[23]; гамбургских портовиков, а за ним бесшумно следует дочь фотографа, собирая фотографии. Но вот появляется с чаем Ольга, какая-то вконец запуганная; вытянув руки над фотографиями, она несет чашки, наполненные только наполовину, а чашку Дункхазе доливает из бутылки.
— Пейте на здоровье.
— Бог мой, — восклицает Рита, — да это же чистое виски!
На что Дункхазе как бы между прочим роняет:
— Мы называем его чаем, и оно действует на нас, как чай.
Широкий жест:
— Так как же мы поступим с этими ужасающе превосходными фотографиями? Что ты сам предлагаешь, Пауль? Хочешь ты того или нет, но все, на что ты нацеливаешь свой объектив, превращается в жемчужину, даже эта страна. У тебя виноград слаще, снег белее, лица приветливее, и даже дымку ты используешь для украшательства. Ну хоть чуточку меньше совершенства! Эй, любители покоя, да заинтересуйтесь же наконец активными действиями! Ведь даже трущобы вы ухитряетесь показать сквозь игру солнечных бликов. Где у тебя признаки недовольства? Где был твой аппарат, когда толпа демонстрировала против шаха Ирана? Почему он щадит полицейского, избивающего людей? И почему не вступает в союз с молодежью, занявшей пустующий дом на берегу Альстера?
Дункхазе внезапно умолкает, смотрит на дверь, которая осторожно приотворяется. Редактор Маттисен старается не привлекать к себе внимания, высоко, точно аист, поднимая ноги, он пробирается к своему столу, чтобы, надо полагать, просмотреть почту. Но нет, он отодвигает конверты в сторону и садится к телефону.
— Ольга! Чаю!
Пока Ольга еще не вошла, он вытаскивает из внутреннего кармана пиджака рукопись и протягивает ее Дункхазе со словами:
— Согласен, ни черта не выжмешь.
Дункхазе кивает, словно только и ждал этого подтверждения; взгляд его перебегает на Риту Зюссфельд и Хеллера, и, извинившись, что не предложил им сесть, он спрашивает, когда они хотят обсудить свою работу. Никаких конкретных предложений? Стало быть, сейчас.
Да, пожалуй, о фотографиях он еще кое-что мог бы сказать, а об отдельных даже договориться; долгий глоток, короткое раздумье. Привычный переход от одной мизансцены к другой. И уже разворачиваются новые декорации:
— Н-да, друзья мои.
Такое начало не предвещает ничего доброго. Редактор Дункхазе взвешивает на ладони рукопись, изображает на лице признательность и, ткнув пальцем в себя, а затем в сторону Маттисена, говорит:
— Мы оба прочли его, ваш третий раздел, или то, что вы предлагаете как третий раздел. И считаем: вариант интересный. Конфликт достоин обсуждения; политический фон убедительный. Люси Беербаум как живой пример, что бы там ни было, заслуживает всяческого уважения. Мы не отрицаем также, что материал выиграет, если обе главы будут слиты.
— Иными словами, — вступает Хеллер, — вы цените наше предложение, но считаете его непригодным для хрестоматии.
Дункхазе явно не хочет, чтобы выводы были сделаны столь поспешно, в конце концов он с интересом прочел их предложение и, кроме того, полагает, что ему необходимо обосновать свое решение. Освободив себе место на подоконнике, Дункхазе садится, скрестив ноги, отхлебывает из чашки и собирается держать речь; по Рита Зюссфельд пресекает его попытку к пространному объяснению. Она прямо спрашивает:
— Имя этой необыкновенной женщины и ее акция, надеюсь, вам известны?
— Еще бы, — отвечает Дункхазе, — я долго был в дружбе с ее ассистентом, Райнером Брахфогелем, может быть, вы его знаете?
Приходится, однако, признать, что глава эта, пусть сама по себе и весьма содержательная, никак не годится для их хрестоматии. Если он не ошибается, им предстояло отыскать живой пример, пример для современников, такова была возложенная на них задача, об этом они договорились.
— Скажите уж прямо, что знаете лучший, — говорит Рита Зюссфельд.
Узкие джинсы Дункхазе, видимо, режут в шагу, он дергает, словно бы играя, раз-другой застежку «молнию» и слегка раздвигает ноги.
— Речь идет не о наилучшем примере, — говорит он, — скорее уж, мы ищем пример, который подходил бы нам сегодня и в этом смысле отвечал бы нашим требованиям.
— А разве Люси не такой пример? — резко спрашивает Рита и, подтолкнув в бок Хеллера, призывает его выступить с возражением.
Но тот, всем своим видом выражая ироничную заинтересованность, только слушает, словно заранее знает все, что здесь будет сказано, и словно остался здесь только затем, чтобы подтвердились его наихудшие опасения. Оттого он тут же согласно кивает, когда Дункхазе называет поступок Люси примером пассивного протеста, примером, которым можно восхищаться, но который, однако, обречен на этакую благородную безрезультативность. Он, Дункхазе, печется о тех молодых людях, кому они нынче предложат в качестве живого примера старую, во всяком случае пожилую, женщину, сам он еще достаточно молод и потому воспринимает подобное предложение не иначе, как кровную обиду всему молодому поколению. При чтении возникает естественное недоверие. И сомнение. И уж никакой охоты нет почерпнуть что-либо из того, чему учит этот пример.
— Да не ослышалась ли я! — восклицает Рита Зюссфельд.
Но Дункхазе сыплет словами, точно читает бегущую световую рекламу.
— А стоит мне осмыслить факт, представленный нам как пример для подражания, и мое недоверие еще более усугубляется. Отрицание незаконного захвата власти — прекрасно. Но это же чисто личное отрицание, личный протест. Созерцательный, в помыслах. Этакое скорбное «нет!», этакий смиренный протест. Подобным примером не может удовольствоваться воспитательная система, направленная на освобождение человека от зависимости. Нам не годится протест бездеятельный, а потому и безрезультатный. К тому же я не представляю себе, чтобы нашей молодежи по вкусу пришелся пример, который запоминается страдающим и сострадающим.