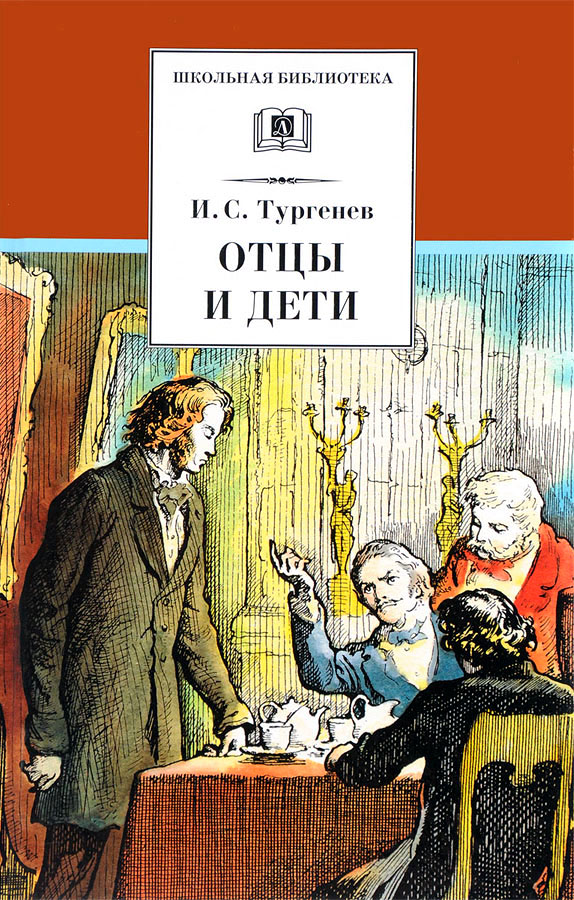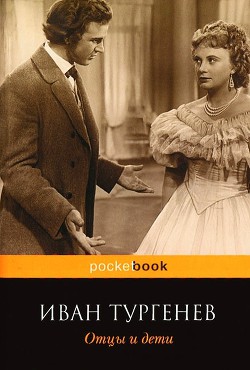Николай Петрович начал его подбрасывать почти под самый потолок, к великому удовольствию малютки и к немалому беспокойству матери, которая, при всяком его взлете, протягивала руки к обнажавшимся его ножкам.
А Павел Петрович вернулся в свой изящный кабинет, оклеенный по стенам красивыми обоями дикого цвета, с развешанным оружием на пестром персидском ковре, с ореховою мебелью, обитой темно-зеленым трипом, с библиотекой renaissance [38] из старого черного дуба, с бронзовыми статуэтками на великолепном письменном столе, с камином… Он бросился на диван, заложил руки за голову и остался неподвижен, почти с отчаянием глядя в потолок. Захотел ли он скрыть от самых стен, что у него происходило на лице, по другой ли какой причине, только он встал, отстегнул тяжелые занавески окон и опять бросился на диван.
IX
В тот же день и Базаров познакомился с Фенечкой. Он вместе с Аркадием ходил по саду и толковал ему, почему иные деревца, особенно дубки, не принялись.
— Надо серебристых тополей побольше здесь сажать, да елок, да, пожалуй, липок, подбавивши чернозему. Вон беседка принялась хорошо, — прибавил он, — потому что акация да сирень — ребята добрые, ухода не требуют. Ба! да тут кто-то есть.
В беседке сидела Фенечка с Дуняшей и Митей. Базаров остановился, а Аркадий кивнул головою Фенечке, как старый знакомый.
— Кто это? — спросил его Базаров, как только они прошли мимо. — Какая хорошенькая!
— Да ты о ком говоришь?
— Известно о ком: одна только хорошенькая.
Аркадий, не без замешательства, объяснил ему в коротких словах, кто была Фенечка.
— Ага! — промолвил Базаров. — У твоего отца, видно, губа не дура. А он мне нравится, твой отец, ей-ей! Он молодец. Однако надо познакомиться, — прибавил он и отправился назад к беседке.
— Евгений! — с испугом крикнул ему вослед Аркадий. — Осторожней, ради бога.
— Не волнуйся, — проговорил Базаров, — народ мы тертый, в городах живали.
Приблизясь к Фенечке, он скинул картуз.
— Позвольте представиться, — начал он с вежливым поклоном, — Аркадию Николаевичу приятель и человек смирный.
Фенечка приподнялась со скамейки и глядела на него молча.
— Какой ребенок чудесный! — продолжал Базаров. — Не беспокойтесь, я еще никого не сглазил. Что это у него щеки такие красные? Зубки, что ли, прорезаются?
— Да-с, — промолвила Фенечка. — Четверо зубков у него уже прорезались, а теперь вот десны опять припухли.
— Покажите-ка… Да вы не бойтесь, я доктор.
Базаров взял на руки ребенка, который, к удивлению и Фенечки и Дуняши, не оказал никакого сопротивления и не испугался.
— Вижу, вижу… Ничего, все в порядке: зубастый будет. Если что случится, скажите мне. А сами вы здоровы?
— Здорова, слава богу.
— Слава богу — лучше всего. А вы? — прибавил Базаров, обращаясь к Дуняше.
Дуняша, девушка очень строгая в хоромах и хохотунья за воротами, только фыркнула ему в ответ.
— Ну и прекрасно. Вот вам ваш богатырь.
Фенечка приняла ребенка к себе на руки.
— Как он у вас тихо сидел, — промолвила она вполголоса.
— У меня все дети тихо сидят, — отвечал Базаров, — я такую штуку знаю.
— Дети чувствуют, кто их любит, — заметила Дуняша.
— Это точно, — подтвердила Фенечка. — Вот и Митя, к иному ни за что на руки не пойдет.
— А ко мне пойдет? — спросил Аркадий, который, постояв некоторое время в отдалении, приблизился к беседке. Он поманил к себе Митю, но Митя откинул голову назад и запищал, что очень смутило Фенечку.
— В другой раз, когда привыкнуть успеет, — снисходительно промолвил Аркадий, и оба приятеля удалились.
— Как, бишь, ее зовут? — спросил Базаров.
— Фенечкой… Федосьей, — ответил Аркадий.
— А по батюшке?.. Это тоже нужно знать.
— Николаевной.
— Bene. [39] Мне нравится в ней то, что она не слишком конфузится. Иной, пожалуй, это-то и осудил бы в ней. Что за вздор? чего конфузиться? Она мать — ну и права.
— Она-то права, — заметил Аркадий, — но вот отец мой…
— И он прав, — перебил Базаров.
— Ну, нет, я не нахожу.
— Видно, лишний наследничек нам не по нутру?
— Как тебе не стыдно предполагать во мне такие мысли! — с жаром подхватил Аркадий. — Я не с этой точки зрения почитаю отца неправым; я нахожу, что он должен бы жениться на ней.
— Эге-ге! — спокойно проговорил Базаров. — Вот мы какие великодушные! Ты придаешь еще значение браку; я этого от тебя не ожидал.
Приятели сделали несколько шагов в молчанье.
— Видел я все заведения твоего отца, — начал опять Базаров. — Скот плохой, и лошади разбитые. Строения тоже подгуляли, и работники смотрят отъявленными ленивцами; а управляющий либо дурак, либо плут, я еще не разобрал хорошенько.
— Строг же ты сегодня, Евгений Васильич.
— И добрые мужички надуют твоего отца всенепременно. Знаешь поговорку: «Русский мужик бога слопает».
— Я начинаю соглашаться с дядей, — заметил Аркадий, — ты решительно дурного мнения о русских.
— Эка важность! Русский человек только тем и хорош, что он сам о себе прескверного мнения. Важно то, что дважды два четыре, а остальное все пустяки.
— И природа пустяки? — проговорил Аркадий, задумчиво глядя вдаль на пестрые поля, красиво и мягко освещенные уже невысоким солнцем.
— И природа пустяки в том значении, в каком ты ее понимаешь. Природа не храм, а мастерская, и человек в ней работник.
Медлительные звуки виолончели долетели до них из дому в это самое мгновение. Кто-то играл с чувством, хотя и неопытною рукою «Ожидание» Шуберта, и медом разливалась по воздуху сладостная мелодия.
— Это что? — произнес с изумлением Базаров.
— Это отец.
— Твой отец играет на виолончели?
— Да.
— Да сколько твоему отцу лет?
— Сорок четыре.
Базаров вдруг расхохотался.
— Чему же ты смеешься?
— Помилуй! в сорок четыре года человек, pater familias, [40] в…м уезде — играет на виолончели!
Базаров продолжал хохотать; но Аркадий, как ни благоговел перед своим учителем, на этот раз даже не улыбнулся.
X
Прошло около двух недель. Жизнь в Марьине текла своим порядком: Аркадий сибаритствовал, [41] Базаров работал. Все в доме привыкли к нему, к его небрежным манерам, к его немногосложным и отрывочным речам. Фенечка, в особенности, до того с ним освоилась, что однажды ночью велела разбудить его: с Митей сделались судороги; и он пришел и, по обыкновению полушутя, полузевая, просидел у ней часа два и помог ребенку. Зато Павел Петрович всеми силами души своей возненавидел Базарова: он считал его гордецом, нахалом, циником, плебеем; он подозревал, что Базаров не уважает его, что он едва ли не презирает его — его, Павла Кирсанова! Николай Петрович побаивался молодого «нигилиста» и сомневался в пользе его влияния на Аркадия; но он