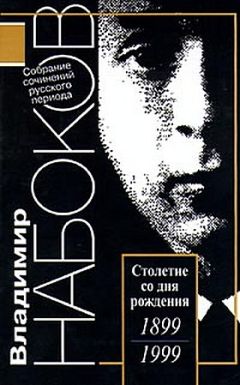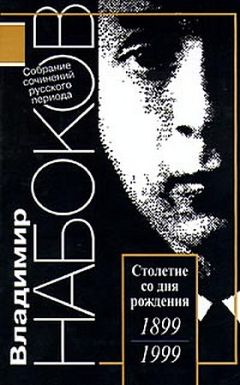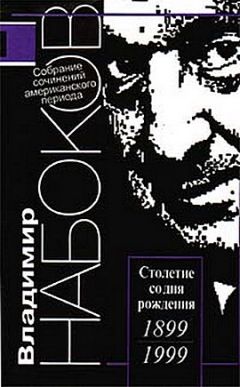тем жаднее и отчаяннее цеплялся за него, и, слушая его щелкающую речь и глядя на его аккуратные черты, трудно было представить себе внежизненный опыт этого здорового с виду, кругленького, лысого с волосиками по бокам, человека, но тем страннее была судорога, вдруг искажавшая его; да еще то, что он время от времени по неделям не снимал с правой руки серой фильдекосовой перчатки (страдал экземой), страшновато намекало на тайну, словно он, гнушаясь нечистого прикосновения жизни или опаленный жизнью другой, берег голое рукопожатие для каких-то нечеловеческих, едва вообразимых свиданий. Меж тем ничто не остановилось после Яшиной смерти, и происходило много интересного, в России наблюдалось распространение абортов и возрождение дачников, в Англии были какие-то забастовки, кое-как скончался Ленин, умерли Дузе, Пуччини, Франс, на вершине Эвереста погибли Ирвинг и Маллори, а старик Долгорукий, в кожаных лаптях, ходил в Россию смотреть на белую гречу, между тем как в Берлине появились, чтобы вскоре исчезнуть опять, наемные циклонетки, и первый дирижабль медленно перешагнул океан, и много писалось о Куэ, Чан-Солине, Тутанкамоне, а как-то в воскресенье молодой берлинский купец со своим приятелем слесарем предпринял загородную прогулку на большой, крепкой, кровью почти не пахнувшей телеге, взятой напрокат у соседа-мясника: в плюшевых креслах, на нее поставленных, сидели две толстых горничных и двое малых детей купца, горничные пели, дети плакали, купец с приятелем дули пиво и гнали лошадей, погода стояла чудная, так что на радостях они нарочно наехали на ловко затравленного велосипедиста, сильно избили его в канаве, искромсали его папку (он был художник) и покатили дальше очень веселые, а придя в себя, художник догнал их в трактирном саду, но полицейских, попытавшихся установить их личность, они избили тоже, после чего, очень веселые, покатили по шоссе дальше, а увидев, что их настигают полицейские мотоциклетки, стали палить из револьверов, и в завязавшейся перестрелке был убит трехлетний мальчик немецкого ухаря-купца.
«Послушайте, надо бы как-нибудь переменить разговор, – тихо сказала Чернышевская, – я этих штук для него боюсь. У вас, верно, есть новые стихи, правда? Федор Константинович прочтет стихи», – закричала она, – но Васильев, полулежа, в одной руке держа монументальный мундштук с безникотиновой папиросой, а другой рассеянно теребя куклу, производившую какие-то эмоциональные эволюции [34] у него на колене, продолжал еще с полминуты рассказывать о том, как вчера разбиралась в суде эта веселая история.
«Ничего у меня с собой нет, и я ничего не помню», – несколько раз повторил Федор Константинович.
Чернышевский быстро к нему обернулся и положил ему на рукав свою маленькую волосатую руку. «Я чувствую, вы все еще на меня дуетесь. Честное слово, нет? Я потом сообразил, как это было жестоко. У вас скверный вид. Что у вас слышно? Вы мне так и не объяснили толком, почему вы переехали».
Он объяснил: в пансионе, где он прожил полтора года, поселились вдруг знакомые, – очень милые, бескорыстно навязчивые люди, которые «заглядывали поболтать». Их комната оказалась рядом, и вскоре Федор Константинович почувствовал, что между ними и им стена как бы рассыпалась и он беззащитен. Но Яшиному отцу, конечно, никакой переезд не помог бы.
Посвистывая, согнув слегка спину, громадный Васильев рассматривал корешки книг на полках; вынул одну и, раскрыв ее, перестал свистать, но зато, шумно дыша, начал про себя читать первую страницу. Его место на диване заняла Любовь Марковна с сумкой: обнажив усталые глаза, она обмякла и теперь приглаживала неизбалованной рукой Тамарин золотой затылок.
«Да! – резко сказал Васильев, захлопнув книгу и вдавив ее в первую попавшуюся щель. – Все на свете кончается, товарищи. Мне лично нужно завтра вставать в семь».
Инженер Керн посмотрел себе на кисть.
«Ах, посидите еще, – проговорила Чернышевская, просительно сияя синевой глаз, и, обратившись к инженеру, вставшему и зашедшему за свой стул и убравшему его на вершок в сторону (как иной, напившись, перевернул бы на блюдце стакан), она заговорила о докладе, который тот согласился прочитать в следующую субботу, – доклад назывался “Блок на войне”».
«Я на повестках по ошибке написала “Блок и война”, – говорила Александра Яковлевна, – но ведь это не играет значения?»
«Нет, напротив, очень даже играет, – с улыбкой на тонких губах, но с убийством за увеличительными стеклами, отвечал инженер, не разнимая сцепленных на животе рук. – “Блок на войне” выражает то, что нужно, – персональность собственных наблюдений докладчика, – а “Блок и война” это, извините, – философия».
И тут все они стали понемногу бледнеть, зыблиться непроизвольным волнением тумана – и совсем исчезать; очертания, извиваясь восьмерками, пропадали в воздухе, но еще поблескивали там и сям освещенные точки, – приветливая искра в глазу, блик на браслете; на мгновение еще вернулся напряженно сморщенный лоб Васильева, пожимающего чью-то уже тающую руку, а совсем уже напоследок проплыла фисташковая солома в шелковых розочках (шляпа Любови Марковны), и вот исчезло все, и в полную дыма гостиную, без всякого шума, в ночных туфлях, вошел Яша, думая, что отец уже в спальне, и с волшебным звоном, при свете красных фонарей, невидимки чинили черную мостовую на углу площади, и Федор Константинович, у которого не было на трамвай, шел пешком восвояси. Он забыл занять у Чернышевских те две-три марки, с которыми дотянул бы до следующей получки: сама по себе мысль об этом не беспокоила бы его, если бы не сочеталась, укрепляя горечь всего сочетания, с отвратительным разочарованием (уж слишком ярко он было вообразил успех своей книги), и с холодной течью в левом башмаке, и с боязнью предстоящей ночи на новом месте. Его томила усталость, недовольство собой, – потерял зря нежное начало ночи; его томило чувство, что он чего-то не додумал за день, и теперь не додумает никогда.
Он шел по улицам, которые давно успели втереться ему в знакомство, – мало того, рассчитывали на любовь; и даже наперед купили в его грядущем воспоминании место рядом с Петербургом, смежную могилку; он шел по этим темно-блестящим улицам, и погасшие дома уходили, не глядя, кто пятясь, кто боком, в бурое небо берлинской ночи, где все-таки были там и сям топкие места, тающие под взглядом, который таким образом выручал несколько звезд. Вот, наконец, сквер, где мы ужинали, высокая кирпичная кирка и еще совсем прозрачный тополь, похожий на нервную систему великана, и тут же общественная уборная, похожая на пряничный домик Бабы-Яги. Во мраке сквера, едва задетого веером уличного света, красавица, которая вот уже лет восемь все отказывалась воплотиться снова (настолько жива была память о первой любви), сидела на пепельной скамейке, но когда он прошел вблизи, то увидел, что это сидит тень ствола. Он свернул на свою улицу и погрузился в нее, как